Субъективное время |
 Это фрагмент главы 9.1. "Субъективное и объективное время" из книги немецкого философа Германа Люббе (г.р. 1926) "В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем", первое издание -1992, последнее - 2003. Скачать книгу полностью можно по этой ссылке>>> Время, заполненное деятельностью и коммуникацией, пролетает
быстро, а когда мы актуализируем его в воспоминании, длится долго, время же,
которое мы сейчас проводим в скуке, в воспоминании пролетит незамеченным, — этот
опыт является общеизвестным и вышел далеко за пределы тематического к нему
обращения в современном романе о времени. Ссылки на этот общечеловеческий опыт,
дидактической целью которых является соотнесение с теми знаниями, которыми
обладают дилетанты, весьма популярны даже в специальной психологической и
социологической литературе по теории субъективного восприятия времени, поэтому
не помешало бы провести небольшое исследование культурной истории роста
внимания к феноменам субъективного восприятия времени, чтобы выяснить, с какого
момента и в каких литературных и научных контекстах стало тематизироваться обратное
соотношение краткой и продолжительной длительности времени как, с одной
стороны, актуально пережитого и, с другой стороны, вспоминаемого времени. Эти феномены описывать легко. Но понять их не столь просто.
Почему в нашем воспоминании длится долго то, что в актуальном опыте пролетело
быстро? Это становится понятным, если увеличение времени, ощущаемое при взгляде
на прошлую жизнь, измерить мерой времени рассказа, которое необходимо для того,
чтобы актуализировать в памяти его содержание. Увеличение продолжительности
этого времени рассказа и субъективное увеличение времени актуализированной
посредством воспоминания жизни, по всей видимости, соотносятся между собой
прямо пропорционально. Это звучит с псевдопретензией на точность, но все же
раскрывает некоторую связь, если уяснить, что нарративная актуализация того
отрезка времени жизни, который уже в прошлом, не является произвольным актом
действия общающихся между собой субъектов, т.е. таким актом, от которого
молчаливый по своему складу человек равным образом мог бы и отказаться. Напротив,
благодаря подобной актуализации субъекты идентифицируют себя через свое прошлое
и лишь таким образом обретают ту идентичность, без которой субъект вовсе не
смог бы относиться к будущему как к своему собственному будущему. Наполненность времени увеличивает время жизни, и как раз
поэтому простая истина, что жизнь коротка, не является исчерпывающей. «У
человека есть две с половиной минуты: одна на улыбку, другая на вздох, и
полминутки, чтобы любить, потому посреди этой минуты он умрет». Это написал Жан
Пауль маленькому Вальтеру фон Гёте в альбом. Дедушка Гёте счел, что эти слова —не
единственное, чем можно напутствовать ребенка на жизненном пути относительно
продолжительности и краткости жизни, и добавил ниже: «Их шесть десятков есть в
часу, больше тысячи за день. Сообрази, сынок, сколько всего можно сделать
успеть». Разумеется, из общечеловеческого, а также — по причине его
элементарной жизненной значимости — широко представленного в литературе опыта,
состоящего в том, что время жизни увеличивается вместе с наполненностью жизни,
нельзя сделать вывод, что наполнение времени с целью выигрыша времени — это
подходящее средство для увеличения времени жизни, достигаемого путем сокращения
пустого жизненного времени. Поэтому с условиями выигрыша жизненного времени
дело обстоит так же, как с условиями счастья. Счастье, согласно старому учению,
это состояние, в котором никто не может оказаться, преследуя цель в нем
оказаться. Напротив, счастье — это прямо не предполагаемое побочное следствие
осмысленного действия, а именно — следствие добродетельной жизни, если
выражаться на языке традиционной, но, невзирая на ее возраст, не устаревшей,
т.е. классической этики. То же самое относится и к обращению со временем: его
пустоты не избежать, заполняя его с намерением ее избежать. Делай, что
необходимо, что имеет смысл и что можешь сделать — тогда из пустоты времени
возникнет его полнота. Подобные описания для некоторых людей неизбежно звучат с
несколько пасторскими нотками. Но такова суть дела. Ибо культура обращения со
временем — это общераспространенная культура повседневности. Ее действенное значение
не исчерпывается литературными традициями эзотерической моралистики. Сюда
относятся также колонки житейских советов в журналах для семейного чтения, и
даже церковные съезды, как мы видели, обращались к данной теме, пусть и не
всегда удачно. Актуальная культур-критика и без того обращена к этой теме, но
если Гёте, как было процитировано, еще считал необходимым поговорить с внуком о
полноте времени, то сегодня в экономике свободного времени специфическим для
нашей эпохи считается, напротив, феномен «самоэксплуатации». Как пишут сегодня,
даже те, кого нельзя назвать «затравленным до безумия повседневностью»,
«вынуждены перейти от пустого времяпрепровождения к быстрым действиям».
Действительно, в современных жизненных условиях в некоторых важных отношениях
объективно стало труднее сформировать жизненно верную культуру обращения со
временем. Но это вовсе не доказывает, что сегодня утратил свою состоятельность
опыт, состоящий в том, что наполненное время увеличивает время жизни, а пустое его
сокращает. Это только доказывает, что традиции обхождения со временем, связанные
со сравнительно постоянными условиями жизни, утратили свою значимость в силу
динамики изменения наших жизненных условий. Поэтому наше обращение со временем
является небывало свободным от значимости традиции, что ведет, соответственно,
к уменьшению гомогенности наблюдаемой культуры обращения со временем. Субъективное увеличение времени, зависящее от его полноты и
пустоты, распространяется, разумеется, и на наше отношение к будущему. Этот
повседневный опыт также давно знаком каждому по субъективному увеличению времени,
проведенному в пути. «A familiar journey seems to take less time than un fa miliar»
[«Путешествие по знакомому маршруту кажется не такимдолгим, как по незнакомому»
(англ.)]. Неважно, путешествуем ли мы пешком, едем ли на поезде или даже летим
на самолете (когда мы, глядя в окно, иногда пытаемся распознать ориентиры) —
всегда время в первый раз длится дольше, чем при повторной поездке. Почему так
происходит? Ответ следующий: будущее время еще незавершенной поездки по хорошо
знакомому пути сопровождается постоянно реализующимися ожиданиями, тогда как в
случае незнакомого пути, напротив, оно не заполнено. Но пустое будущее время
увеличивается в точности комплементарно к эффекту сокращения, в силу которого
уменьшается пустое время в прошлом, тогда как, в противоположность этому,
определенное ожидание сокращает будущее время в той же мере, в какой его
наполнение увеличивает прошедшее время. Увлекательно до тонкостей разбираться в феноменологии
субъективного опыта восприятия времени. Если не уходить от примера с
увеличивающимися или сокращающимися отрезками времени в пути, то можно было бы
проанализировать всякого рода дополнительные условия, от которых зависит, действительно
ли связанное с определенными ожиданиями будущее время воспринимается как время,
протекающее быстрее. Важнейшим из таких условий является то, что время, течение
которого должно наполняться определенным ожиданием, проводится не исключительно
в ожидании, а напротив, в совершении действий, которые при этом можно
совершать. Банально утверждать, что к этим действиям — благодаря суверенитету в
отношении времени — может относиться также отсутствие действия, и столь же
банально то, что отсутствие действий и заполняющие время ожидания действия
никоим образом не следует воспринимать как эквиваленты. В непатологическом
нормальном случае нашего жизнепрепровождения время ожидания, которое мы
проводим исключительно в ожидании (отвлекаясь от особых случаев, в которых именно
отсутствие действий ощущается как особенно действие, дающее ощущение счастья),
является временем, проведенным в скуке. Крайней степени интенсивности опыт
такой скуки достигает тогда, когда то, что мы ожидаем, совершенно ничего не
делая, есть именно начало нашей собственной деятельности. Затачиваем карандаши,
но ничего не пишем, намечаем расписание нужной поездки, но никуда не
отправляемся, в который раз перечитываем письмо, на которое необходимо
ответить, но так и не беремся за ответ, по многу раз проверяем, поспели ли
плоды в саду, пока те не сгниют, — все это в конечном счете приводит к
состояниям, которые Гончаров в своем несравненном романе о времени назвал
«обломовщиной». Грустному времяпрепровождению по образцу Обломова противостоит
исполненное наслаждением отсутствие действия, которое описал Фридрих Шиллер, а
именно такое состояние упоения собственными силами, когда человек до
определенного времени оттягивает момент, чтобы, само собой разумеется, перейти
к их использованию. Суть дела такова, что феноменология субъективного опыта времени, которая представлена в поэтической литературе о времени, написанной в XIX и XX вв., по большей части нагляднее и точнее, чем феноменология опыта времени, с которой можно встретиться в текстах философов. Но здесь мы не будем говорить о феноменологии. Самые заметные феномены и без того знакомы каждому по собственному жизненному опыту, и существует общий культурный обычай иногда открыто о них поговорить, например, на семейных или дружеских встречах, редкость которых дает повод вспомнить о том опыте времени, который повлиял на чью-либо жизнь. Это случается на любых похоронах, на встречах выпускников, которые сегодня — помимо своих конвенциональных целей — дают возможность постичь ту историческую сингулярность, которая в динамической цивилизации отмечает жизненный опыт, связанный с определенной возрастной группой25. Обычно на таких встречах обмениваются также опытом восприятия времени, т.е. он совместно подтверждается как всеобщий опыт. Однако топос «как быстро летит время» не дает, пожалуй, при этом ничего, кроме установления коммуникативного согласия, — ведь в ходе разговора оно всегда должно опираться на непротиворечивость, но на таких редких мероприятиях не приняты обычные в других случаях переходы к разговорам о погоде, а требуется подтверждение одновременности жизненных ситуаций. Если кто-то скажет, что протекшие с последней встречи пять лет пронеслись быстрее, чем три или четыре года, которые пролегли между последней и предпоследней встречей, то он, конечно, выразит еще один известный всем опыт, сопровождающий процесс старения. Но на последующий затем вопрос, в чем же тут дело, уже нельзя будет ответить, перейдя на топосы мудрых изречений или общие места. В беседу, которая развивается вокруг этого вопроса, включатся участники, искушенные в вопросах психологического развития, а также знатоки литературы или феноменологически одаренные и способные к самоописанию наблюдатели. Почему в опыте восприятия времени гимназиста-первоклассника экзамены на аттестат зрелости находятся далеко в будущем — дальше, чем у химика-первокурсника находится его защита диссертации, хотя хронологически эти периоды примерно одинаковы? Не нужно быть психологом, чтобы понять, что заметный характер ограниченности горизонта будущего, быстро проявляющийся по мере взросления, есть функция активного заполнения будущего деятельностно-мотивирующими интересами, соответствующими планами и ожиданиями. Пока мы еще не располагаем далекой перспективой будущего, на которую уже в настоящее время темпорально ориентированы собственные действия, будущее становится удаленным от настоящего на безмерные периоды времени. Если, наоборот, человек стал компетентным в соответствующей сфере деятельности и благодаря профессии или иной жизненной ситуации мотивирован к этой деятельности, то уже теперь актуализируются те будущие периоды времени, быстро увеличивающиеся в определенных жизненных фазах, на которые распространяются собственные жизненные и деятельные планы, и именно поэтому будущее уже не является далеким, а напротив, близким — это уже актуализированное будущее. Все, кто должен сопровождать или способствовать развитию детей, школьников, учащихся профессиональных школ или студентов, обладают насыщенным опытом общим знанием о том, что таким вот образом структурированные временные перспективы развиваются с большими различиями, зависящими от индивидуальных особенностей образования, социального положения, а также психологических предрасположенностей. При этом исследование развития временных перспектив в зависимости от возраста, равно как и установление средних показателей результатов таких исследований, включая распределение случаев с отклонениями, причиной которых интересуются, прежде сего, в силу понятных практических оснований, — все это является делом методологически разработанных эмпирических подходов. К изменениям в актуальном восприятии будущего, которые настоятельно вторгаются в обычную жизнь субъекта, относятся прежде всего перемены, связанные с преклонным возрастом. Если исследователи обращаются к этому вопросу, то сразу обнаруживают то, что и так уже известно пожилым людям, достигшим некоторых успехов в дескриптивной объективации своего возрастного опыта, а именно, что в перспективе будущего вплоть до глубокой старости все будет гораздо больше определяться здоровьем и болезнями, сохранившимися или распавшимися семейными или прочими отношениями, а также большей или меньшей смысловой очевидностью собственной деятельности, чем хронологическими подсчетами в отношении приближающегося конца жизни. Представление о том, что угроза предстоящей смерти занимает все больше наши мысли по мере уменьшения числа тех лет, которые нас еще, по всей вероятности, от нее отделяют, — это далекий от актуальной релевантности продукт случайной фантазии молодежи относительно старости. Верно, напротив, то, что и в пожилом возрасте люди проводят вероятностные подсчеты относительно конца жизни только в тех жизненных ситуациях, когда — вместо приобщения к подлинности вот-бытия посредством принятия себя самого как «бытия-к-смерти»* — речь идет о том, чтобы получить страховую сумму по договору о страховании жизни, срок которого — вопреки математическим расчетам вероятностей, производимым при страховании жизни, — оказался превышен, или же о том, чтобы согласиться с непременно пугающе высоким страховым взносом, который придется заплатить, если вы захотите застраховать на случай смерти взятый в пожилом возрасте кредит. Таковы те случаи, когда в индивидуальной жизненной практике обретают значение таблицы смертности — относительно недавнее с точки зрения науки (а точнее, относящееся к началу Нового времени) достижение теории вероятностей по определению нашей темпоральной структуры жизни. Но и вне зависимости от подобных крайностей, т.е. вычислений хронологического времени жизни, к которым принуждает практика страхования жизни, в пожилом возрасте люди обычно относятся к объективному сокращению оставшегося времени жизни не экзистенциально, а деятельно — в форме социально или культурно обусловленных действий. Нужно делать распоряжения для завещания; известные авторы заботятся о сохранности своего наследия; разбирающийся в ритуальных вопросах благочестивый человек заблаговременно указывает стих из Библии, под которым должно быть напечатано объявление о его смерти. По сути это означает следующее: даже в пожилом возрасте и, более того, именно в это время присутствие смерти — это присутствие сроков завершения необходимых дел перед лицом ее предстоящего прихода. Но поскольку человек реалистично все еще не может рассчитать этот предстоящий приход, то и в пожилом возрасте временная перспектива отмечена этим предстоящим приходом смерти столь же мало, как и в более ранние годы жизни. Вот почему более важными оказываются другие различия в отношении к будущему у молодых и пожилых людей. Решающим моментом здесь, по-видимому, является прежде всего уменьшающееся с возрастом количество возможностей что-нибудь сделать снова, но по-другому. В такой формулировке соответствующий жизненный опыт выглядит как опыт смирения, и это подходящая формулировка. Тем не менее наряду с уменьшением количества возможностей сделать что-либо по-другому не растет eo ipso количество того, что человек считает необходимым сделать по-другому. Это означает, что в удачном с точки зрения жизненной практики случае в пожилом возрасте достигается состояние согласия с собой, чего не бывает в ранние периоды жизни, когда детство уже завершилось, и что для молодых людей, действительно, было бы неадекватно их возрасту. «Сверхидентичность» — так Гельмут Шельски назвал это специфически возрастное отношение к себе. Конечно, встречаются случаи, в которых «сверхидентичность» Шельски есть не что иное, как синоним «старческой косности» — в завуалированной форме, приданной ей жеманным словом. Но как правило, особенно если исходить из современных теорий идентичности, мы слышим в понятии «сверхидентичность» то достигаемое лишь с возрастом согласие с самим собой, которое и обусловливает специфическое старческое спокойствие. Для перспективы будущего в пожилом возрасте это означает, что она — даже тогда, когда она в остальном остается наполненной очевидными замыслами, а также уверенностью в жизненно важных семейных и иных социальных отношениях, — становится, в конце концов, перспективой, лишенной жизненных планов. Смерть уже ничего больше не прерывает, и именно поэтому может быть даже желанной. При этом в рамках такой структуры жизни долгосрочная перспектива того, что она все еще не приходит, была бы несносной. Именно поэтому в эпоху, когда процветает геронтология и когда из добрых, даже настоятельных намерений ободряют и побуждают пожилых людей к тому, чтобы они оставались деятельными, испытываешь удовлетворение, когда узнаешь о результатах эмпирических исследований по расширению временной перспективы пожилых людей, заключающихся в том, что в весьма преклонном возрасте она все же сокращается — быстро и существенно. Это эмпирически обоснованное свидетельство приносит удовлетворение, поскольку на этот раз оно подтверждает и без того культурно широко распространенный предрассудок относительно временной структуры нашей жизни в глубокой старости. | |
Наверх |


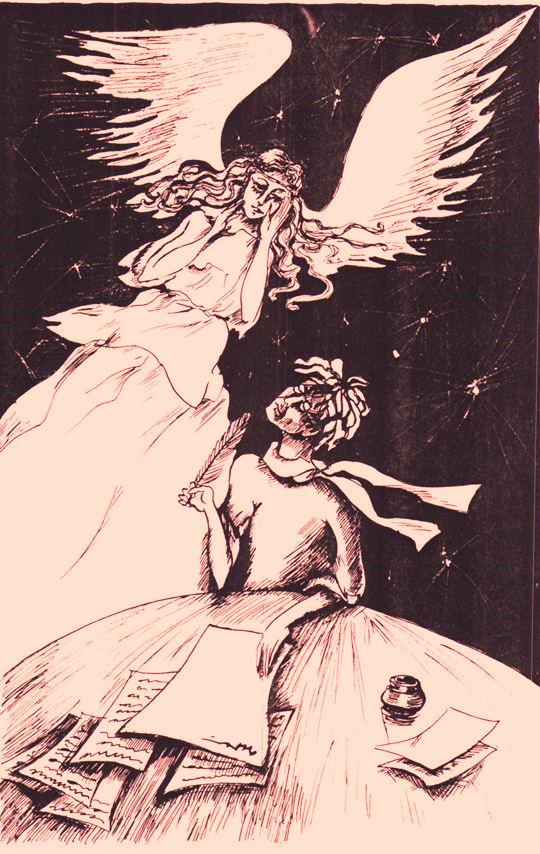
 Культуролог в ЖЖ
Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК
Культуролог в ВК