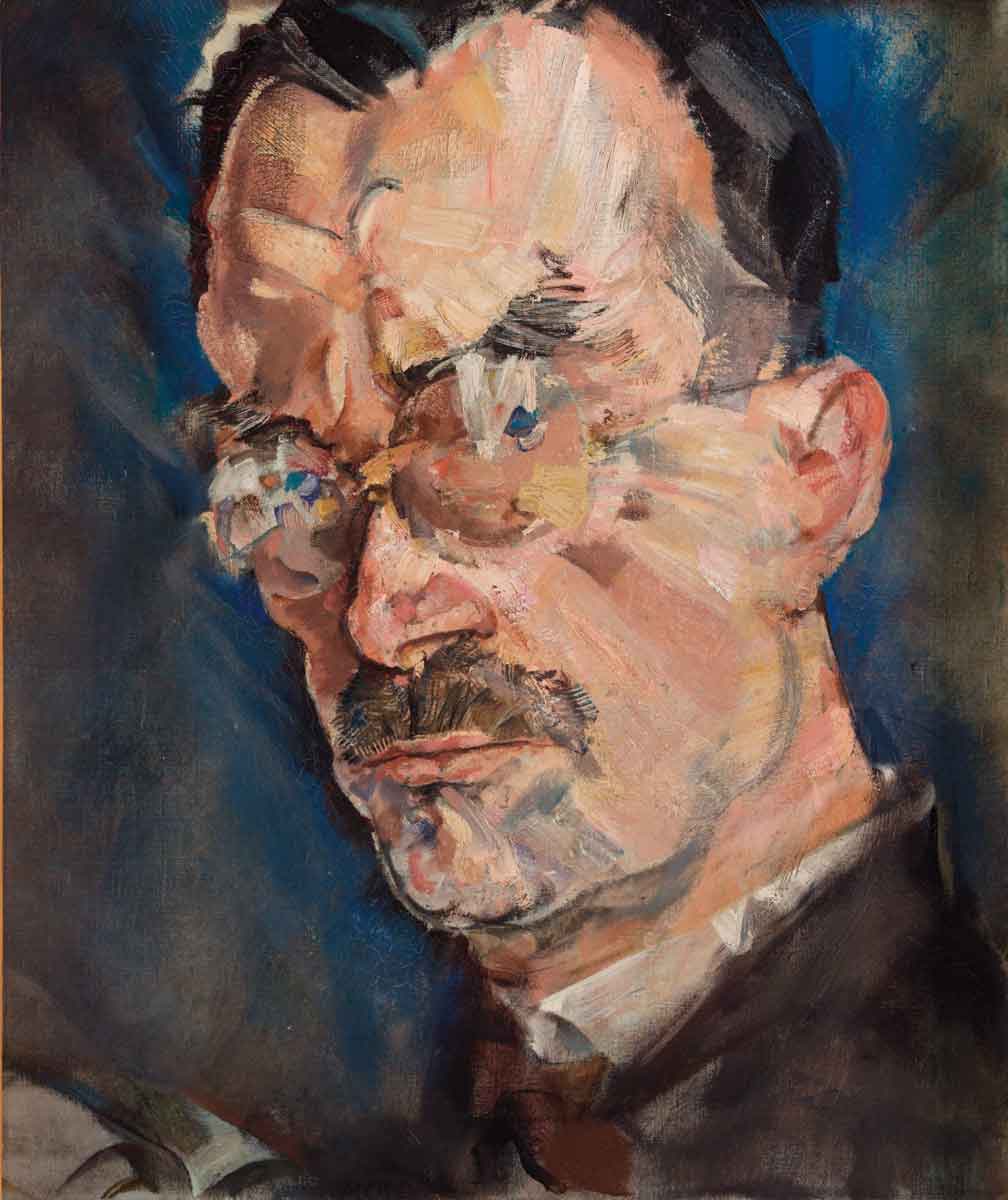Образы XVIII века: призраки и фантомы |
Восемнадцатое
столетие было первым, подвергшимся беспощадной и разносторонней рефлексии.
Разумеется, и более ранние эпохи становились предметом критического разбора.
Однако то были именно эпохи с относительно
размытыми границами или же конкретные исторические события.
Восемнадцатый век первым предстал перед судом Истории, и никогда еще суд этот
не был так суров, ибо он сам вырастил своих критиков, приучив их не щадить
никакие авторитеты.  1. "Век просвещения! Я не узнаю тебя!"Память
о восемнадцатом столетии была освещена кровавым заревом Французской революции, которая стала главным критерием его оценки.
"Как мы дошли до жизни такой?" - вопрошали не только французы, но и
те, кто наблюдал издалека за страшными событиями, ибо то, что привело к ним, в
той или иной степени имело место и в
Европе, и в России. Жозеф
де Местр, стремясь осмыслить главные уроки революции, настаивал на коллективной
ответственности за нее всей Франции, и вина ее усугубляется той ролью, которую
она играла в Европе. Жозеф де Местр
(подобно многим другим мыслителям) был убежден, что на его страну была
возложена Богом исключительная духовная
миссия, и отказ от нее не мог не повлечь такие же исключительные страдания,
призванные очистить и возродить ее. "На каждую нацию, как и на каждого
индивида, возложена миссия, подлежащая исполнению. Франция осуществляла над
Европой подлинную власть, (...) которой она злоупотребила самым
предосудительным образом. Именно Франция была во главе религиозной системы.
(... ) Король французов назывался христианнейшим. (...). Однако, поскольку
Франция использовала свое влияние, чтобы воспротивиться и развратить Европу, не
следует удивляться тому, что ее возвращают к этому предназначению ужасными
способами», [10, c.19], - писал он в "Рассуждениях о Франции", изданных в 1797 году. По его мнению, во время трагических внутриполитических потрясений
общество не делится на жертв и палачей. Виновны все, причем не только
непосредственные участники революции:
"Все те, кто тщился избавить народ от его религиозных верований; все те,
кто противопоставлял метафизические софизмы законам собственности; все те, кто
говорил: карайте, лишь бы мы от этого выигрывали (...); именно все, кто
призывал Революцию, все, кто этого хотел, совершенно заслуженно стали
жертвами"[10, c.19-20]. Главная вина за революцию, считал Жозеф де Местр,
лежит на интеллектуалах; сама же она явилась результатом Божественного
Провидения, которое и управляло ею. Таким образом, духовная атмосфера восемнадцатого
века рассматривалась им как ее зловещая
увертюра. Иначе
видел ее младший современник Жозефа де Местра Н.М.Карамзин. "Мы, сличая
разные времена, (...) искали и находили доказательство любезной нам мысли, что
род человеческий возвышается и хотя медленно, (...), но всегда приближается к
духовному совершенству, - говорил он в 1794 году устами одного из своих героев.
- Кто более нашего славил преимущества осьмого-надесять века: свет философии,
смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных
удовольствий, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и
дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений? (...) Конец нашего века
почитали мы концом главнейших бедствий
человечества и думали, что (...) люди, уверясь нравственным образом в изящности
законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности" [4,
c.243-244]. Много
лет спустя над этими надеждами издевался Томас Карлейль в "Истории
французской революции" (1837). "Посмотрите (...) туда, где
разгорается заря нового утра! Пробудитесь же от долгого сомнамбуличекого сна,
гоните прочь тяготившие вас колдовские призраки. Пусть исчезнут они (...), и
пусть навсегда вместе с ними исчезнет на Земле все глупое и нелепое. Ведь
отныне на Земле воцарятся истина и справедливость - основные принципы эпохи
Просвещения. Ибо можете ли вы себе представить какую-либо иную цель, кроме
счастья (...)? И непобедимый аналитический метод, и достижения науки - гарантия
тому. (...) Надо только, чтобы общество было устроено правильно. (...) По-видимому,
всеобщая доброжелательность приведет к тому, что каждый будет считать своим
долгом заботу об остальных, так что не будет больше людей заброшенных и
несчастных"[5, c.28], - так передает он риторику века, названного им
бумажным за многословную ложь, фальшь и пренебрежение реальными
проблемами. "Смягчение
нравов", которое замечал Н.М.Карамзин и многие его современники, Карлейль
тоже упомянул, но совсем в ином тоне: "Вы только посмотрите, как "смягчились"
нравы - порок, "утратив все свое безобразие", приобрел приличные
формы (...) и стал своего рода добродетелью, признаком "хорошего
тона"! В отношениях между людьми ценится искусство вести беседу, блистать
остроумием"[5, c.27].
Двадцать лет спустя подобным же образом, но более сдержанно и взвешенно охарактеризовал духовную ситуацию предреволюционных лет Алексис де Токвиль: "Религиозная терпимость, мягкость во властвовании, человеколюбие и даже доброжелательность никогда не проповедовались так широко и, казалось, не пользовались таким признанием, как в XVIII веке. (...) И тем не менее в среде столь кротких нравов суждено было зародиться самой бесчеловечной революции" [14, c.163]. Карлейль более категоричен: по его мнению, внешнее благополучие и умиротворение - только затишье перед бурей: "Говорят, что перед землетрясением стоит прекрасная, ясная погода, точно так же перед революцией люди полны надежд и благих ожиданий" [5, c.26]. Впрочем, хорошо было ему, жёлчному романтику, рассуждать об идеалах минувшего века, о которых он знал лишь из исторических сочинений. А вот как воспринял кровавую катастрофу ее современник, воспитанный на идеалах Просвещения, узнавший о них не только из книг, но от близких и глубоко почитаемых людей. Для него и его единомышленников Французская революция стала громом средь ясного неба: "Кто мог думать, ожидать, предчувствовать? Мы надеялись скоро видеть человечество на горней степени величия, в венце славы, в лучезарном сиянии, подобно ангелу Божию (...). Но вместо сего восхитительного явления видим... фурий (...)! Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Где возвышение кротких, нравственных существ, сотворенных для счастия? - Век просвещения! Я не узнаю тебя - в крови и пламени не узнаю тебя - среди убийств и разрушения не узнаю тебя!" [4, c.163]. 2. "Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро". Однако
далеко не всем XVIII столетие
представлялось в свете Французской
революции. Для большинства образованных русских ключевым событием было
правление Петра I и его последствия. Уходящей
эпохе посвящена ода А.Н.Радищева
"Осьмнадцатое столетие", написанная
в 1801 году, после возвращения из
ссылки, когда он был членом Комиссии по составлению законов и, возможно,
надеялся на либеральные преобразования нового императора. "Нет, ты не будешь забвенно, столетье
безумно и мудро", - пишет он. В отличие от Карамзина, Радищев
рассматривает XVIII век как единое целое; для него он весь трагичен и страшен, но "две вознеслись
скалы во среде струй кровавых: Екатерина и Петр!" Трудно сказать,
насколько был искренен Радищев, прославляя Екатерину; не менее трудно понять,
что подразумевает поэт под "струями кровавыми": Французскую
революцию, "мятежи и казни" петровского времени или Пугачевский бунт.
Впрочем, в этой оде его мало интересуют конкретные события. А.Н.Радищев созерцает
XVIII век как бы из космоса: "Царства погибли тобой, как раздробленный
корабль; Царства ты зиждешь; они расцветут и низринутся паки; Смертный что зиждет, все то рушится, будет все
прах". Кажется,
что А.Н.Радищев, вслед за бесчисленными поколениями мыслителей и поэтов, обращается
к идее Екклесиаста: "Суета сует, все суета". Но для него не всё суета. Суета - политические
изменения; главная же и единственная ценность -
завоевания человеческого духа. И Радищев произносит восторженный
панегирик XVIII веку: О незабвенно столетье! радостно смертным даруешь Истину, вольность и свет, ясно созвездье вовек; Мудрости смертных столпы разрушив, ты их паки
создало; Но ты творец было мысли: они ж суть творения Бога, И не погибнут они, хотя бы гибла земля (...). Мужественно
сокрушило железны ты двери призраков, Идолов свергло к земле, что мир на земле почитал.
(...) Мощно, велико ты было, столетье! дух веков прежних Пал пред твоим алтарем ниц и безмолвен, дивясь. [13, c.424-426] А.Н.Радищев
убежден, что человеческие идеи, ниспровергнувшие предрассудки,
"суть творения Бога", и потому вечны. Однако поэт сетует, что
у XVIII столетия "сил недостало к
изгнанию всех духов ада", и предсказывает грядущие бедствия. "Прекрасные идеи - и вот обесценившая их
кровавая катастрофа", - такова основная идея многих авторов, рассуждавших
тогда о XVIII веке. Радищев мыслит иначе: освобождение человеческого духа
- главное достижение прошлого столетия,
и кровавые потрясения - только его фон. В
том же 1801 году ушедшему столетию посвятил свою оду Семен Бобров ("Столетняя песнь, или
Торжество осьмогонадесять века России"). Многие современники высмеивали
его тяжеловесный стиль, однако тем, кому
удастся пробиться сквозь бурелом неологизмов и архаизмов, откроются дух
захватывающие образы, которые завораживают своим величием, красотой и поистине
вселенскими масштабами. Подобно Радищеву, Бобров созерцает историю из космоса;
череда столетий проносится перед ним, подобно небесным светилам, и вот -
торжественное явление восемнадцатого века. Но тут он уже спускается с небес на
землю, прославляет Петра I и его преемников - Елизавету, Екатерину II,
Александра и заключает оду словами: "Россия! Славь с благоговеньем / Сей
век! Он всех веков светлей / (...) Се
гениев твоих столетье!" [2, c.10] Эти
оды, посвященные уходящему восемнадцатому столетию, - лишь отдельные голоса в
огромном дружном хоре русских апологетов XVIII века. И все же нельзя не
упомянуть один голос, который на его исходе пел не в унисон. Это голос князя
М.М.Щербатова. В отличие от А.Н.Радищева и Н.И.Новикова, он не просто критикует
злоупотребления властей, но ставит под сомнение сами реформы Петра I и,
главное, их последствия. В книге "О повреждении нравов в России",
завершенной в конце 1780-х годов, незадолго до смерти, он сравнивает век
нынешний и век минувший, явно не в пользу первого. Правда, М.М.Щербатов - отнюдь не фанатичный
апологет Древней Руси. Говоря о простом
образе жизни предков, святости
родственных уз, твердости религиозных
устоев, он отмечает и недостатки тогдашней жизни. Реформы Петра I, по его
мнению, были необходимы и разумны, но они неизбежно привели к "повреждению
нравов": "Мы (...) исполинскими шагами шествовали к поправлению наших
внешностей, но тогда же гораздо с вящей скоростию бежали к повреждению наших
нравов и достигли даже до того, что Вера и Божественный закон в сердцах наших
истребились (...), гражданские узаконения презираемы стали" [18,c.415].
Далее М.М.Щербатов говорит о неправедных
судьях, ослаблении семейных уз (дети не почитают родителей, родители не
заботятся о детях, супруги не верны друг другу), отсутствии "любви к
отечеству, ибо почти все служат более для пользы своей" и боязни идти
наперекор власть имущим ("несть твердости духу, дабы не токмо истину пред монархом сказать, но ниже
временщику в беззаконном и зловредном
его намерении попротивиться" [18, c.415-416] . Корень
зла, по его мнению, - в ослаблении веры. Признавая абстрактную разумность
борьбы Петра I с предрассудками,
М.М.Щербатов отмечает: "Отнимая суеверия у непросвещенного народа, он
самую веру к Божественному закону отнимал. (...) Уменьшились суеверия, но уменьшилась и вера, исчезла
рабская боязнь ада, но исчезла и любовь к Богу и к святому его закону; и нравы,
за недостатком другого просвещения исправляемые верою, потеряв сию подпорку, в
разврат стали приходить" [12, c.433]. Кстати, о том же, но позже, под
впечатлением событий Французской революции, писали европейские критики XVIII
века.
Однако
книга М.М.Щербатова была гласом вопиющего в пустыне: в России ее полный текст
увидел свет лишь в 1896-1898 гг.
3. "Мы ведем войну против восемнадцатого столетия". До
сих пор мы говорили о мыслителях, сравнивавших XVIII век с прошлыми эпохами.
Теперь настало время предоставить слово
тем, кто, созерцая его на изрядном расстоянии, сравнивал его с XIX столетием и,
вопреки традиции, отдавал предпочтение не прошлому, а настоящему. В
1832 году 26-летний будущий славянофил, а в то время убежденный западник И.В.Киреевский опубликовал в журнале «Европеец» статью «Девятнадцатый век». В ней Киреевский воздает хвалу своему времени, сравнивая его с
XVIII столетием. У XVIII века, по его мнению, основная тенденция –
разрушительная. Он критикует его за грубый материализм, пренебрежение к
религии, стремление к крайностям. XIX столетие отличается, как считал тогда
Киреевский, терпимостью, уважением к религии, реализмом, практичностью в лучшем
смысле слова (религия стремится сблизиться с жизнью и более не уделяет догмам
чрезмерного внимания) и простотой. Вот как характеризует И.В.Киреевский свой
век, противопоставляя его восемнадцатому: "Терпимость, вместе с уважением
к религии, явилась на место ханжества, неверия и таинственной мечтательности.
(...) Общество высшим законом своим
признало изящество образованной
простоты. (...)Господствующее направление умов (...) заключалось в стремлении к
успокоительному уравновешению нового духа с развалинами старого времени. (...)
Человек нашего времени уже не смотрит на жизнь как на простое условие развития
духовного, но видит в ней вместе и средство и цель бытия" [6, c. 9-11, 18]. Мыслители,
рассуждавшие о XVIII веке на его исходе или в первой половине следующего
столетия, обычно подчеркивали его разрушительный характер, отзываясь о нем то с
ненавистью, то с восторгом. Однако со временем в его постепенно теряющем живую
осязательность образе стали проявляться новые черты, которые становились все
явственнее на фоне приближающегося к
концу XIX века. Подобно
многим романтикам, Ф.Ницше не любил
XVIII век, но отнюдь не за
разрушительное начало и уж конечно не за ослабление религиозных устоев.
Его главный "грех", по мнению философа, - лживость и трусость перед
лицом реальной жизни. В "Воле к власти" он дает ему уничижительную,
исполненную презрения характеристику, причем
с точки зрения не "доброго старого времени", а современности,
стремящейся излечиться от его наследия: "Восемнадцатый век - весь под
властью женщины: мечтательный, остроумный, поверхностный, но умный, где дело
касается желаний и сердца, libertin (распутный - И.Т.) даже в самых духовных
наслаждениях, подкапывающийся подо все авторитеты; опьяненный, веселый, ясный,
гуманный, лживый перед самим собою, au fond (в сущности - И.Т.) - в
значительной мере canaille, общительный. (...) Восемнадцатый век старается
забыть все, что известно о природе человека, чтобы приладить его к своей
утопии".
Если,
по словам Ницше, человеком-символом XVIII cтолетия является Руссо, а его
свойствами - феминизм, суверенитет чувств и лживость, то для XVII века таковыми являются Декарт, аристократизм,
суверенитет воли и господство разума. XIX
век, по мнению философа, унаследовав лучшее от семнадцатого, успешно
преодолевает наследие восемнадцатого. Его дух наиболее явственно отражает
философия Шопенгауэра; ему присуще "господство похоти - свидетельство суверенитета
животности", оно "честнее, но мрачнее". Но чем же все-таки девятнадцатый век
"лучше" восемнадцатого? Он, по словам Ницше, "более животный,
подземный; он безобразнее, реалистичнее, грубее, - и именно потому
"лучше", честнее, покорнее всякого рода действительности (...); зато
слабый волею, зато печальный и темно-вожделеющий, зато фаталистичный. Нет
страха и благоговения ни перед "разумом", ни перед
"сердцем" (...) Та степень, в которой стала господствовать наука,
указывает, насколько освободилось
девятнадцатое столетие от власти идеалов. (...) Девятнадцатый век инстинктивно
ищет теорий, которые бы оправдывали его фаталистическое подчинение факту"
[11, c.74-77]. "Мы,
настоящие европейцы, - пишет Ницше, -
ведем войну против XVIII
столетия". И, как он считает, небезуспешно. В чем же заключаются
завоевания нынешнего столетия? ""Возврат
к природе" все решительнее понимается в смысле прямо противоположном тому,
который придал этому термину Руссо, - прочь от идиллии и от оперы. Все
решительнее - антиидеализм, объективность, бесстрашие, трудолюбие, чувство
меры, недоверие к внешним переменам, антиреволюционность. Все более
серьезная постановка на первое место
вопроса о здоровье тела, а не о здоровье "души"". Дабы
превознести свой век, Ницше, подобно другим апологетам современности, объявляет
его преемником далеких эпох, к которым он гораздо ближе, нежели к презираемому
им XVIII столетию. "Мы окрепли и выросли в силе (...); это -
доказательство роста нашей мощи (мы приблизились к XVII и XVI столетиям). (...)
Мы стремимся к сильным sensations, как к тому же стремились все слои народа во
все более грубые времена. (...) Мы все ищем таких состояний, к которым бы не
примешивалась более буржуазная мораль, а еще того менее поповская мораль"
[11, c. 77]. И
все же в XIX веке еще встречаются фантомы восемнадцатого. Это, по словам Ницше,
""утопия", "идеальный человек", обожествление природы,
суетность самовыставления, подчинение пропаганде социальных идей, шарлатанство"[7, c.77].
4. "Куда девалалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь?" И
все же проклятое и осмеянное XVIII столетие, как и другие прошедшие эпохи,
вызывало ностальгию, воплощая один из образов "золотого века". Эта
ностальгия особенно заметна в России, где зачастую оно ассоциировалось не с
далекой Французской революцией и даже не с жестокими преобразованиями Петра I,
а с "добрым старым временем" со всеми его характерными признаками.
Это "доброе старое время" воспринималось отнюдь не как идиллия;
подчас оно вызывало недоумение и ужас, которые, однако, только усиливали жгучий
интерес к нему. Этот интерес отчасти
объясняется и тем, что восемнадцатое
столетие уже в первой половине девятнадцатого воспринималось как качественно
иная, почти экзотическая, но очень близкая эпоха, сохранившаяся в памяти старших
современников. В значительной степени он подогревался тем, что освещение многих событий прошлого столетия было под запретом и, когда наступила
"либеральная весна" Александра II,
исторические журналы стали прежде всего публиковать мемуары XVIII века, большинство из которых только
тогда и увидело свет. Наконец, отношение к XVIII веку в России связано в
значительной степени с ностальгией по угасающей усадебной культуре, которая
усиливается во второй половине девятнадцатого века. Впрочем, об этом писал еще А.С.Пушкин: "Куда девалась эта
шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и
проказники - все исчезло (...). Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские
дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным
и одичалым. (...) Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного (...). На
всех воротах прибито объявление, что дом продается или отдаетя внаймы, и никто
его не покупает и не нанимает. (...) Подмосковные деревни также пусты и
печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свирлова (Свиблово - И.Т.) и
Останкина; плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне
заросших травою, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями.
Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале (...). Во флигеле живет немец
управитель и хлопочет о проволочном заводе" [12, c.188]. XVIII
век, прежде всего запечатленный в образах искусства рококо, - одна из любимых
тем художников "Мира искусства". Особенно это увлечение заметно в
творчестве А.Н.Бенуа и К.А.Сомова. Хрупкое, изящное, бесконечно далекое от
жизни искусство, существующее ради себя самого, театральность, ирония, едва
приметная печаль, ощущение скоротечности жизни - все это соответствовало
эстетическим идеалам художников конца
XIX-начала ХХ века, и многие из них нашли то, что искали, именно в XVIII
столетии. «Ретроспективными
мечтателями» назвал их критик С.К.Маковский, размышляя о причинах и нюансах
любви художников объединения «Мир искусства» к XVIII веку. Впрочем, они не только самозабвенно
созерцали красоту прошлой эпохи, но и немало сделали для того, чтобы привлечь
внимание образованного общества к почти неизвестному тогда периоду русского
искусства. В 1905 году в Петербурге при активном участии С.П.Дягилева и
А.Н.Бенуа была организована историко-художественная выставка русских портретов;
мирискусники активно сотрудничали с журналами «Художественные сокровища России»
(1901-1903), «Старые годы» (1907-1916), «Столица и усадьба» (1913-1917) и
«Аполлон» (1909-1917), на страницах которых публиковались статьи о русском
искусстве XVIII-начала XIX века; обсуждались вопросы, связанные с сохранением
архитектурного облика Петербурга и памятников постепенно уходящей в небытие
усадебной культуры. С
чем же, по мнению С.К.Маковского, в свое время тоже очарованного обаянием XVIII
столетия, связана «ретроспективная
мечтательность» столь многих живописцев Серебряного века? Она, по его мнению,
«не только следствие той «любви к редкому и невозвратному», которой овеяно все
искусство конца XIX века, но несомненно объясняет и более глубокой
потребностью: вернуться к хорошей художественной традиции, к забытой красоте
екатерининской и александровской эпохи, после гнетущей прозы и фальши искусства
50-80-х годов. Русский XVIII век (…)
открылся нам во всем неожиданном великолепии своего расцвета. Впервые русские
художники «нового века» оглянулись назад с благоговейной вдумчивостью и
прикоснулись к забытым сокровищам уже
далекого русского прошлого (…). Из пыльных кладовых и музейных чердаков, из
опустевших дворцов Петербурга и Москвы, из дворянских гнезд провинции выглянули
снова на свет Божий произведения напудренных предков и вместе с ними – вся
жизнь, колоритная, зачарованная своей невозвратностью жизнь былой, помещичьей и придврной России. И сами предки ожили! (…)
И мы полюбили их какой-то новой любовью, немного болезненной, грустной,
волнующей загадками смерти. Полюбили их чопорное изящество
в золоченых гостиных и стриженых боскетах, их тщеславную роскошь и эксцентрический вкус,
их улыбки, слезы и любовные похождения – томные взгляды светских красавиц,
переливы шелка и бархата в усадебных интерьерах, красивые турецкие шали на
бледных, точеных шеях, плюмажи, треуголки и огромные цилиндры уличных франтов,
всю странную декорацию, окружавшую забытых мастеров времен Елизаветы,
Екатерины, Александра» [8, c.188] Впрочем,
каждый из художников «Мира искусства» по-своему любил XVIII век. Глубоко личное отношение связывало с ним
А.Н.Бенуа. Будучи выходцем из франко-итало-немецкой петербургской семьи, он
видел в русской придворной жизни XVIII столетия отражение блистательной
культуры своей исторической родины эпохи
Короля-Солнца: «Александр Бенуа – художник Версаля. (…) Версальская греза как
бы обнаружила древнюю душу Бенуа. (…)
Редчайший случай – это тяготение вкуса и ума к стране отцов (…), к пышности Короля-Солнца, к величавой
изысканности барокко, этот сладкий недуг воспоминаний о пережитом когда-то на
бывшей родине, вновь обретенной творческим наитием. (…) Смотрит он на Россию
«оттуда», из прекрасного далека, и любит в ней
«странной любовью» отражения чужеземные и бытовые курьезы послепетровских веков. Отсюда увлечение его
преобразователем, пушкинским «Медным
всадником», Санкт-Питербурхом и его окрестными парадизами и монплезирами, всей
этой до жути романтической иностранщиной нашего императорского периода.
Европейство Бенуа не поза, не предвзятая идея, не вывод рассудка, не
только обычное российское западничество. Это своего рода страсть души. (…) Мне
всегда казалось, что живопись для Бенуа – отчасти лишь повод, а не цель, повод
воплотить влечение свое (…) к тому великолепию прошлого, которое должно
воскреснуть, которого так недостает
настоящему, нашим русским, да и всеевропейским, сереньким, мещанским
будням» [7, c.67] – писал лично знавший А.Н.Бенуа С.К.Маковский.
У
К.А.Сомова свой XVIII век. Он, пишет
критик, «отдает дням минувшим тоску свою
и насмешку. Призраки, которых он оживляет, знакомы ему до мельчайших
подробностей. Он знает их мысли тайные, и вкусы, и пороки, одним воздухом дышит
с ними, предается одним радостям и
печалям. Его искусство какое-то щемящее, сентиментально-ироническое и немного
колдовское приятельство с мертвыми. Среди современников он чувствует себя
одиноким. Он ничуть не историк. Он
участник им изображаемых любовных забав и приключений. Лирик, чувственный и
прихотливый (…) Сомов (…) как будто и не живет настоящим, вращаясь в
заколдованном королевстве кукольных призраков, с которыми он породнился душой,
жертвенной, отдающейся наваждению».[7, c.67] 5. «Он верит или учит, что надо верить» В
начале ХХ столетия, когда воспоминания о Французской революции и породивших ее
идеях постепенно теряли былую яркость и болезненность, XVIII век и в Европе, и в России все чаще
воспринимался как галантный, превращаясь
преимущественно в объект эстетического созерцания или исторического
любопытства, жадного до всевозможных курьезов. Однако Первая мировая война и
последовавшие за ней события вновь сделали актуальным полузабытый исторический
опыт и заставили многих задуматься: не витает ли снова над миром призрак
позапрошлого столетия? Да,
восемнадцатый век вернулся, принеся в мир ту фальшь и лживость и те опасные
иллюзии, о которых в свое время писал Ф.Ницше. Такова одна из идей книги Томаса
Манна «Наблюдения аполитичного». Она
была написана в годы Первой мировой
войны и отражает умонастроения, в той или иной степени характерные для немецких
и российских интеллектуалов второй половины XIX-начала ХХ века. Исходя из
распространенной тогда теории о противоположности культуры и цивилизации, Томас
Манн стремится убедить читателей в изначальной аполитичности и духовности
немцев, обреченных на трагическое "одиночество между Востоком и
Западом" [13, c.48], и в их принадлежности именно культуре, ее более
высоким ценностям, а не цивилизации (представителем которой является Запад, то
есть Франция). "Разница между духом и политикой включает также разницу между культурой и цивилизацией,
душой и обществом, свободой и избирательным правом (...); немцы же это
культура, душа, свобода, искусство и не цивилизация, общество, избирательное
право" [19, c.31]. Но
при чем здесь XVIII век? "По своей духовной сути я - истинное дитя
столетия, на которые приходятся первые двадцать пять лет моей жизни, -
девятнадцатого" [19, c.21], - пишет Т.Манн в начале своей книги и далее,
подчас дословно излагая Ницше, объясняет, чем ему духовно близок
"родной" XIX век и чем он
принципиально отличается от предшествующего столетия. Что же ХХ век? Он, по
мнению Т.Манна, стал преемником восемнадцатого, отказавшись от
"правдивости, безволия, покорности и меланхолического безверия"
девятнадцатого. "Он верит или учит,
что надо верить". Вновь идеал и утопия вытесняют потребности реальной
жизни, вновь усиливается политизация общества и пропаганда за социальные и
политические реформы, догматизм и нетерпимость
[19, c.26]. То, что этот рецидив наступил в результате войны (которую Т.Манн,
подобно многим другим литераторам, приветствовал в качестве
"очищения" и "освобождения"), не говорится. Итак,
на пороге ХХ столетия появился призрак восемнадцатого - лживый и догматичный,
сентиментальный и жестокий - воплощение столь презираемой многими
"цивилизации". Впрочем, воображение Т.Манна он занимал недолго. Уже в
конце книги он говорит о другом, более
грозном призраке прошлого - "готическом человеке", новом госте
современности, на этот раз из Средневековья. И этот гость - отнюдь не узколобый
люмпен-громила, а цивилизованный литератор, "новый фанатик", который
еще покажет себя [19, c.511]. Впоследствии призрак Нового Средневековья или его
фантомы стали одной из главных тем европейской культуры, в том числе и
творчества Т.Манна ("Доктор Фаустус").
Однако
тени восемнадцатого века нет-нет да и появлялись среди призраков европейской и
русской культуры. В
1922 году вышла в свет статья О.Мандельштама «Девятнадцатый век» (которая во
многом была откликом на статью А.Блока «Крушение гуманизма»). Как и в
одноименной статье И.В.Киреевского, написанной 90 лет назад, в ней
подчеркивается разрушительный, антицерковный характер XVIII столетия:
«Восемнадцатый век был веком секуляризации, то есть обмирщения человеческой
мысли и деятельности. (…) Архитектура, музыка, живопись – все излучалось из
единого центра, а этот центр подлежал уничтожению». Его заменило, пишет О.Мандельштам,
«выдуманное язычество, мнимая античность (…) вспомогательная, утилитарная,
сочиненная для удовлетворения назревшей исторической потребности». О.Мандельштам
обращает внимание на игры с прошлым, которыми была пронизана предреволюционная
и революционная эпоха: «По мере приближения Великой французской революции
псевдоантичная театрализация жизни делала все большие успехи, и к моменту самой
революции практическим деятелям пришлось уже двигаться и бороться в густой толпе персонификаций и
аллегорий, в узком пространстве настоящих театральных кулис, на подмостках
инсценированной античной драмы». Однако игры с прошлым опасны, ибо могут
вызвать к жизни неподконтрольные разуму, иррациональные силы, разбудить доселе
спящие инстинкты и страсти. «Дух античного беснования» пришел на смену
рациональной классической античности и подчинил себе и вождей, и народ. Подобно
Т.Манну, О.Мандельштам, сравнивая нынешнее, прошлое и позапрошлое столетия,
замечает возрождение непримиримости и нетерпимости века Просвещения: «После
восемнадцатого, который ничего не понимал, не располагал малейшим чутьем сравнительно-исторического метода и, как
слепой котенок в корзине, был заброшен среди непонятных ему миров, наступил век
всепонимания – век релятивизма, с чудовищной способностью к перевоплощению, -
девятнадцатый. (…) Наше столетие начинается под знаком величественной
нетерпимости, исключительности и сознательного непонимания других миров». Отношение
О.Мандельштама к «величественной нетерпимости» двадцатого столетия нельзя
назвать однозначно отрицательным, ибо он не разделяет симпатии Ф.Ницше и
Т.Манна к покорности перед
действительностью XIX столетия. Подобное отношение к жизни он считает
проявлением «буддийского влияния в европейской культуре, (…) чужого,
враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история, -
активная, деятельная, насквозь диалектическая (…). Век не исповедовал буддизма,
- пишет он, - но носил его в себе как внутреннюю ночь, как слепоту крови, как
тайный страх и головокружительное начало». По
мнению О.Мандельштама, ХХ век не должен с презрением отвергать наследие
восемнадцатого. Напротив, «элементарные формулы, общие понятия восемнадцатого
столетия могут снова пригодиться. (…) Теперь не время бояться рационализма.
Иррациональный корень надвигающейся эпохи (…), подобно каменному храму чужого
бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум – ratio энциклопедистов –
священный огонь Прометея». [9, с.196-201]. Таким образом, возрождение
XVIII века проявляется еще и в
пробуждении иррациональных сил, однако победить их, «европеизировать и
гуманизировать двадцатое столетие» можно с помощью его же наследия – разума,
скептицизма и материализма. О
необходимости обратиться к наследию восемнадцатого столетия в это же время
писал и Альберт Швейцер. В книге «Философия культуры» (1923) он, сравнивая
духовную атмосферу современного мира с позапрошлым столетием, сделал вывод не в
пользу настоящего. По мнению ученого, современный человек деградирует, ибо, в
силу перегруженности и постоянной нехватки времени, он не хочет да и не может
самостоятельно мыслить и полноценно общаться.
"Вся
наша духовная жизнь протекает в рамках организации. (...) Столкновения между
идеями и людьми, составлявшие в свое время славу XVIII века, ныне уже не имеют
места. Тогда благоговение перед групповыми мнениями не признавалось. (...) Ныне
постоянное уважение к господствующим в
организованных объединениях воззрениям стало (...) правилом. (...) В век
рационализма и расцвета философии общество давало опору индивиду, вселяя в него
глубокую уверенность в торжество всего разумного и нравственного (...). Людей
того времени общество поднимало, нас оно подавляет». По мнению А.Швейцера, люди
ХХ века вступили в новое средневековье, избавление от которого будет намного
труднее, чем от прежнего, ибо в настоящее время задача состоит в том, «чтобы побудить миллионы
индивидов сбросить с себя собственноручно надетое ярмо духовной
несамостоятельности". [17, c.53-54].
Нетрудно заметить, что А.Швейцер здесь следует за Кантом, определившим
Просвещение как выход из состояния
духовного несовершеннолетия, в котором мы находимся по собственной вине, вследствие нашей лени и трусости. («Ответ на
вопрос: что такое Просвещение»). 6. «Просвещенная планета воссияла под знаком триумфирующего зла»Совершенно иначе воспринимали понятие Просвещения
Т.Адорно и К.Хоркхаймер. В работе «Диалектика Просвещения» (1947), пытаясь
найти истоки национал-социализма и Второй мировой войны, они обращаются к
истории европейской культуры, дабы найти там тот роковой надлом, который и стал
причиной катастрофы. Этим надломом, по их мнению, стало Просвещение, выходящее
далеко за рамки XVIII столетия. Что
же такое Просвещение, по мнению Т.Адорно и К.Хоркхаймера? "С
давних пор просвещение (...) преследовало цель избавить людей от страха и
сделать их господами. (…) Программой Просвещения было расколдовывание
мира. Оно стремилось разрушить мифы и свернуть воображение посредством знания. (…)
Знание, являющееся силой, не знает никаких преград, ни в порабощении творения,
ни в услужливости по отношению к хозяевам мира. (...) Техника есть сущность
этого знания. Оно имеет своей целью не понятия и образы, не радость познания,
но метод, использование труда других, капитал. (...) Власть и познание -
синонимы. (...) То, что не желает соответствовать мерилу исчислимости и выгоды, считается Просвещением подозрительным. (...) Его
идеалом является система, из которой вытекает все и вся. (...) Просвещение всегда симпатизировало
социальному насилию. (...) Просвещение тоталитарно как ни одна из систем.
Неистина его коренится (…) в том, что для него всякий процесс является с самого начала уже предрешенным». Просвещение
привело не только к тоталитаризму и мировым войнам. Его последствия неизбывны:
«Человечество, чье мастерство и эрудиция все более и более дифференцируются с развитием разделения труда, одновременно
оттесняется на антропологически более примитивную ступень. (...) Фантазия
чахнет. (...) Проклятием безудержного прогресса
является безудержная регрессия. (...)Чем сложнее и изощреннее социальная, экономическая и хозяйственная
аппаратура, (...) тем беднее переживания. (…) Люди опять превращаются именно в
то, против чего был направлен закон развития
общества: они всего лишь видовые существа, друг другу тождественные благодаря
изолированию в принудительно управляемой коллективности». Итак, Просвещение
победило, и «просвещенная планета воссияла под знаком триумфирующего зла». [1,
c.16-60]
Так каким оно было, XVIII столетие: преступным,
кровавым, героическим, трусливым, безумным, мудрым, лживым, самоуверенным, сомневающимся, безобразным или
прекрасным? Ответ на этот вопрос рассеян в бесчисленных книгах, архивных
документах, произведениях искусства и более в том, что было уничтожено и
забыто. Он рассеян и никогда не может быть собран воедино для вынесения
обвинительного или оправдательного вердикта. Отдельный же человек видит то, что
может, и, главное, хочет. Наблюдая совершенно одинаковые явления, каждый из нас
видит их по-своему, инстинктивно или сознательно сосредотачиваясь на одном и
отметая другое. Что же говорить о
прошлом, фрагменты которого мы пытаемся разглядеть сквозь затуманенные
увеличительные стекла настоящего?
Список литературы 1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Понятие просвещения //
Диалектика просвещения. Философские
фрагменты. М-СПб.: Медиум, 1997. С.16-60 2. Бобров С.С. Столетняя песнь, или Торжество
осьмагонадесять века России // Бобров С.С. Рассвет полночи или созерцание
славы, торжества и мудрости порфироносных, браноносных и мирных гениев России.
Санкт-Петербург: типография И.Глазунова, 1804. - С. 1-10 3. Боулт Джон Э. Игры с ностальгией: Александр Бенуа
и культурная история // Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство
в контексте эпохи конца XIX-начала ХХ
века. М.: Прогресс-Традиция, 2012. - С.550-570 4. Карамзин Н.М. Мелодор к Филалету // Карамзин Н.М.
Записки старого московского жителя. Избранная проза. - М.: Московский рабочий,
1986. С. 242-248 5. Карлейль Т. Французская революция. - М.: Мысль,
1991. - 575 с. 6. Киреевский И.В. Девятнадцатый век // Киреевский
И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений. Калуга: Гриф, 2006. - С. 9-32 7. Маковский С.К. Ретроспективные мечтатели //
Маковский С.К. Силуэты русских художников. М., Республика, 1998. С. 187-211 8. Маковский
С.К. Стилисты «Мира искусства» // Маковский С.К. Силуэты русских
художников. М., Республика, 1998. С. 65-80 9. Мандельштам О. Девятнадцатый век // Мандельштам
О. Сочинения в двух томах. Т.2. М.: Художественная литература, 1990. С. 195-201 10. Жозеф де Местр. Рассуждения о Франции. - М.:
Роспэн, 1997. - 215 с. 11. Ницше Ф. Воля к власти. - М.: Культурная
революция, 2005. - 880 с. 12. Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург //
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т.7. - Ленинград: Наука, 1978. - C. 184-210 13. Радищев А.Н. Осьмнадцатое столетие // Радищев
А.Н. Сочинения. М.: Художественная литература, 1988. - С. 424-426 14. Алексис
де Токвиль. Старый порядок и революция. - М.: Московский философский фонд,
1997. - 251 с. 15. Томан И.Б. Образы XVIII века в сочинениях
И.С.Тургенева // Тургеневский сборник. Вып.4. - М.: Тургеневское общество,
2007. - С. 41-56 16. Томан И.Б. Образы XVIII столетия в европейской и
русской культуре (конец XVIII-начало ХХ века) // Актуальные вопросы изучения
духовной культуры в контексте диалога цивилизаций: Россия – Запад – Восток.
Материалы Международной
научно-практической конференции
«Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XV Кирилло-Мефодиевские
чтения”. 13 мая 2014 года. М-Ярославль:Ремдер, 2014. – С.240-250 17. Швейцер А. Философия культуры // Швейцер А.
Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992 18. Щербатов М.М. О повреждении нравов в России //
Щербатов М.М. Избранные труды. - М.:
Роспэн, 2010. - С. 415-477 19. Mann
Th. Betrachtungen eines Unpolitischen. - Frankfurt am Main: S.Fischer Verlag,
1983. - 609 S. Томан Инга Бруновна кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Государственного института русского языка им.
А.С.Пушкина
| |||||||
21.03.2016 г. | |||||||
Наверх | |||||||



 Культуролог в ЖЖ
Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК
Культуролог в ВК