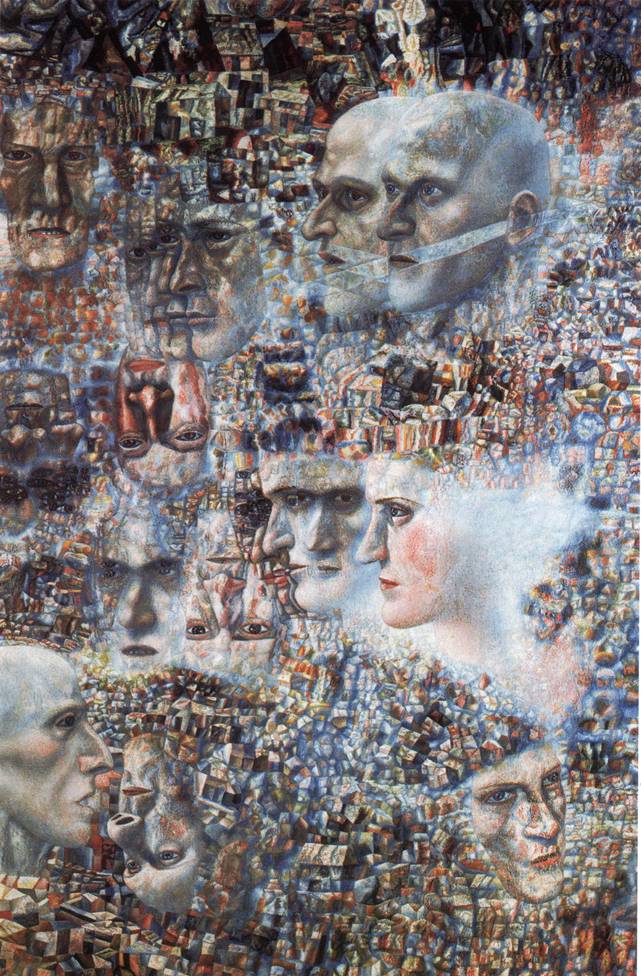Музыкальное содержание и музыкальное бессознательное |
...Чуть было всю форму содержанием не замарал. Мих. Евдокимов
Корни этой статьи уходят в дискуссии потока «Музыкальная семантика»на интернет-форуме «Классика». Вопрос музыкального содержания – связей музыки с внемузыкальными смыслами, со сказкой и явью, светом и тьмой, святостью и грехом – поставленный в этом потоке, тогда, в 2007 году, решался на уровне конкретных констатаций: в такой-то музыке есть связь с такими-то смыслами, в такой-то – с такими-то. В одноименной статье Б. Иоффе, топикстартера этого потока, подробно рассматривалась структура такого осмысления; но вопрос о том, как возможно само осмысление, остался открытым.  Мне казалось очевидным, что крайние варианты ответа на этот вопрос – «никакого содержания нет, все это досужие антинаучные домыслы» и «содержание сугубо субъективно, следовательно – бессмысленно говорить о каких-либо его коллективных закономерностях» не решают ничего, выступая лишь осуждением ситуации (первый вариант) и ее оправданием (второй вариант). Все рассуждения упирались в отсутствие логического звена, скрепляющего разрыв между музыкой и «музыкальной семантикой», – которое объяснялось, в свою очередь, отсутствием теоретической базы, способной обосновать связь музыки с ее содержанием. Непродуктивность в данном вопросе традиционного музыковедческого дискурса, с его позитивистской системой аргументации, была очевидна; в качестве альтернативы предлагались концепции Шопенгауэра и Гуссерля, а в качестве недостающего звена – дополнительные категории: «смысловое ядро» музыки и пр. Требовалась концепция, способная объединить в непротиворечивую структуру три компонента: (1) личностную неповторимость музыкального содержания, (2) его коллективные закономерности, (3) его несводимость к структурам, поддающимся рациональной верификации. Очевидно, что все это возможно только при условии снятия бинарной оппозиции «объективное-субъективное», неприменимой к музыкальному содержанию. Почти все, что мне было известно в музыковедении, соотносилось с данным вопросом лишь косвенно – одним из двух способов, которые я опишу в первой главе. «Подсказка» нашлась случайно – в работе М. Аркадьева «О величии нотного письма и европейской ритмике» (показательно, что она также написана «по мотивам» диалога с идеями Б. Йоффе): «…никто при анализе гармонии не пользуется такими терминами, как, скажем: ««воображаемое» тяготение доминанты к тонике», а говорят об этом как о вполне объективном процессе, хотя никаких физических оснований для этого нет. Как это становится возможным? Благодаря интерсубъективной, коллективно-бессознательной природе такого рода переживаний» (курсив автора). Идея о бессознательной базе музыкальных смыслов пронизывает работу Аркадьева, но отдельно нигде не формулируется и не обосновывается, имея в ней аксиоматический статус. Цитированный отрывок обозначил сразу три ниточки. Первая из них касалась звена, явно пропущенного в построении Аркадьева: тяготение доминанты к тонике предстает в дискурсе «объективным процессом» не потому, что само по себе имеет бессознательную природу, а потому, что является знаком, обладающим сферой значений, каковая уже растворена в коллективном бессознательном. Иными словами, первая ниточка привела к языку. Это открытие было, конечно, изобретением велосипеда; однако в дискуссиях «Музыкальной семантики», содержащих немало ценных наблюдений и выводов, слово «язык» не играло сколько-нибудь важной роли. Не встречается оно и в статье Иоффе, посвященной, по сути, закономерностям осмысления языка. Таким образом, к трем условиям музыкального содержания, нуждающимся в непротиворечивом объединении, добавилось четвертое: язык. Вторая ниточка отходила от слова «интерсубъективный» и вела все к той же феноменологии. Метод Гуссерля и его последователей, замкнутый на Логосе, представлялся мне, музыканту, эдаким высокомерным иностранцем: его адаптация к музыке требовала, как мне казалось, построения дополнительных «эпициклов» – пояснений, усложняющих и без того предельно запутанное дело. Впрочем, феноменологическое обоснование музыкального содержания, вероятней всего, возможно – с учетом закономерностей, отмеченных мной в статье и вынесенных в выводы, – но лучше я предоставлю его тем, кто лучше меня разбирается в феноменологии. Наконец, третья и главная ниточка, отходившая от понятия «коллективное бессознательное», привела к обширной области, связанной с разработкой этого явления и включающей в себя психологию, лингвистику, социологию, теорию мифа и многие другие отрасли. Категория бессознательного позволяла снять оппозицию «объективное-субъективное», заменив ее куда более покладистой парой «индивидуальное-коллективное», и я обрадованно потирал руки. В первую очередь, разумеется, я обратился к теории К. Юнга. Несмотря на свой «устаревший» статус, она как будто бы объединяла все четыре условия в единую целостность. Однако я быстро понял, что незыблемость, врожденность и внеисторичность юнговского коллективного бессознательного, или «объективной психики», существующей предвечно, вне корреляции с опытом, противоречит самой природе музыкального содержания, существующего в жесткой зависимости от индивидуального и коллективного опыта. Кроме того, редукция музыкального содержания к юнговской коллекции архетипов, имея некое продуктивное зерно, в целом была бы ужасной натяжкой. Сама категория коллективного бессознательного казалась мне долгожданной склейкой пресловутого разрыва, которая вдруг обернулась птицей, как сказочный артефакт, и улетела за тридевять земель. Все упиралось в вопрос стабильности/динамики бессознательного, его зависимости от опыта. Несколько ближе к ситуации оказались концепции, так или иначе восходящие к юнговской, уточняющие либо развивающие её – концепции «социального бессознательного» Э. Фромма и «эпистемы» М. Фуко, связывающие массив бессознательного с социальной, исторической и языковой конкретикой. Все они давали лишь косвенную возможность «музыкальных» параллелей – в области, касающейся общих корреляций опыта, языка и бессознательного.
Ситуацию, в которой я оказался, можно охарактеризовать с помощью фрагмента из работы израильского культуролога Д. Соболева «Введение в аналитику дуальности «культура и бессознательное», написанного в ином контексте, но подразумевающего область, общую с моими поисками: «...Я обнаружил, что большинство механизмов, которые я пытался анализировать, являются либо полностью бессознательными, либо содержат существенный бессознательный элемент. Но что же означала их «бессознательность» с теоретической точки зрения, какой понятийный аппарат мог быть использован для их анализа? У меня не было ответа. Я перебирал в памяти все возможности, которые были в моем распоряжении, или в распоряжении любого другого современного филолога или культуролога. Связаны ли эти компоненты с влечениями и травматическими переживаниями в прошлом? С подавленными желаниями или с инстинктом саморазрушения? Или может быть с мифическими и ускользающими архетипами? Являются ли они примером «неумышленного знания» и знакового распыления у Лакана? Или, может быть, речь идет об альтюссеровском воображаемом «центрировании» субъекта посредством идеологических категорий? Связано ли подобное бессознательное с процессом «не-сознательного» обучения, каким его описывает когнитивная психология? Определенно, это не было ничем из перечисленного; более того, то, с чем я столкнулся, было плохо сопоставимым со всеми этими привычными схемами. Среди многих языков культурологии – аналитических и фантастических, простых и намеренно усложненных – не было ни одного, на котором я мог бы говорить о той форме «бессознательности», перед которой оказался». Обескураживающая эрудиция автора, чувствующего себя как дома в литературе, известной мне большей частью в форме отдаленных преданий (вроде древних легенд о псоглавцах и людях с тремя головами), подтверждала две моих догадки: что вопрос этот имеет не-только-музыкальное значение, и что он еще не разработан в нужной мере. Было очевидно, что «это» бессознательное тянется от взаимодействия архетипов/опыта в тень, – в противоположность юнговскому бессознательному, тянущемуся из тени, из самодовлеющих архетипов – в опыт. В своих поисках я обратился к сборнику статей Р. Якобсона «Язык и бессознательное», который привел меня к соответствующему разделу лингвистики. Тезис Ж. Лакана «бессознательное организовано как язык» оказался необходимой перемычкой в механизме, который я стал представлять себе более-менее целостно, и здесь попытаюсь описать его. *** Главная категория этой статьи – коллективное бессознательное; в конкретном историко-языковом контексте оно становится культурным бессознательным, а уникальный статус музыкального языка позволяет конкретизировать его как музыкальное бессознательное. Музыкальное бессознательное – и есть тот компонент, который, с моей точки зрения, выступает необходимым логическим звеном в цепи «музыка → содержание», снимая разрыв между ними. Я использую традиционное слово «содержание», а не «семантика», потому что содержание шире семантики, всегда ограниченной языковой конкретикой; содержание в полном своем объеме равняется невыразимому и неструктурируемому коллективному опыту данной культуры. Данная статья, несмотря на свои усыпительные объемы, является лишь беглым эскизом подхода, который кажется мне наиболее продуктивным для системного изучения музыкального содержания. Этот подход опробован мной в исполнительской и педагогической практике, подтвердившей безусловную роль ассоциации и бессознательного в процессе музыкального обучения. Многие положения статьи заведомо дискуссионны, многие гипотетичны – постольку, поскольку я не располагаю знаниями, позволяющими не наизобретать велосипедов, – но от души надеюсь, что в будущем из всего этого «что-нибудь да получится». 1. Музыкальное содержание как пугало
2. Музыкальное содержание как неизбежность
3. Историческая динамика музыкального содержания
Первая публикация: музыкальный журнал "Израиль XXI" | ||
04.03.2012 г. | ||
Наверх | ||



 Культуролог в ЖЖ
Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК
Культуролог в ВК