Бестиарий сна Татьяны: от сказки к триллеру |
Анализ "сна Татьяны" из "Евгения Онегина" А.С. Пушкина. 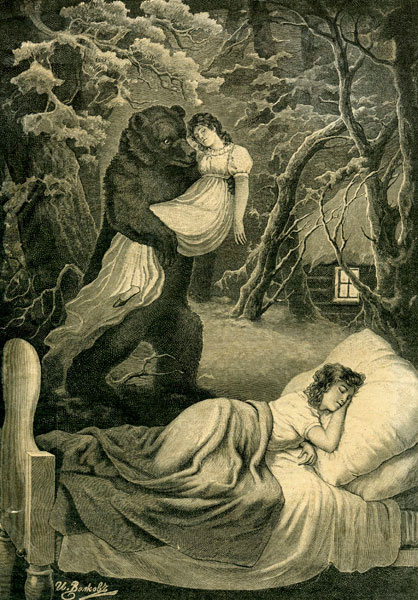 Роман А.С. Пушкина «Евгений
Онегин» остается в центре внимания отечественной гуманитарной науки. Казалось бы, тщательно исследована каждая строфа романа, строки черновиков, эпиграфы
к главам, рисунки на полях рукописей и авторские примечания. Междисциплинарные штудии
касались вопросов психологии искусства, философии, семиотики. На стыке
искусствознания и литературоведения рассматривались аспекты изобразительности романа «Евгений
Онегин». Особый
исследовательский интерес
по-прежнему вызывает отдельный сюжетный
отрывок романа – сон Татьяны.[1] Пятая глава была начата в
январе Сновидение героини
условно можно разделить на две части. В первых строфах (XI - XV) мы встречаем целую галерею сказочных образов (лес, мост, ручей, медведь, лесная
дорога, дом в лесу). И это вполне
объяснимо: Пушкину хорошо были известны сборники Левшина, Чулкова, Кирши
Данилова и другие фольклорные издания.[3] Сказочное
действо начинается весьма
символично: переходом героини через
«дрожащий, гибельный мосток» в иной, загадочный
потусторонний мир, в котором у Татьяны находится добровольный
помощник. Медведь, один
из главных персонажей русских народных сказок о животных, имеет двойственную
природу в фольклоре.[4] В святочных гаданиях образ соотносится с
брачной символикой; маска медведя участвует в свадебном обряде; яркая роль
отводится ему и в традициях ряженья.[5] Медведь,
приснившийся незамужней девушке, сулил ей скорую свадьбу и богатого жениха. На параллель между генералом
– мужем Татьяны и родственником Онегина, и медведем-кумом Онегина из «сна» обратил
внимание еще В.В.Набоков.[6]
Авторы «Онегинской энциклопедии» связывают тотемный образ и заглавного
героя романа с мотивами жертвенности, альтруизма, двойничества, подчеркивая в
пророческом контексте сна Татьяны
знаковые слова «здесь мой кум».[7] Во многих
сказках медведь – хозяин леса; он знается с нечистой силой, даже роднится с ней
(нередко медведь называется братом лешего). «Косматый лакей» в сновидении Татьяны долго преследует испуганную героиню, и, в конце концов, «мчит ее лесной дорогой» к заснеженному шалашу. Отметим, что «лесные»
эпизоды сна Татьяны (встреча героини с медведем, переправа через мостик)
неоднократно привлекали внимание художников и графиков. Так, например, в фондах
Всероссийского музея А.С. Пушкина хранится одна из работ Константина Коровина –
«Сон Татьяны» (1899), посвященная
строкам XV строфы. Традиция
иллюстрирования романа «Евгений Онегин» содержит обширный материал – яркие и
детальные изображения отдельных сцен.[8] Однако среди богатейшего наследия нам не
удалось обнаружить сюжеты второй, более живописной и усложненной части
«чудесного» сна Татьяны. Строфы XVI – XIX описывают иной мир, населенный уродливыми монстрами. Комментаторы романа,
подмечая идентичность изображенной нечисти у Пушкина и Босха, указывали на возможный факт непосредственного знакомства
автора с копией картины Мурильо «Искушение св. Антония».[9] Принимая во внимание изыскания
авторитетных пушкинистов, внесем некоторые уточнения и дополнения в сложившуюся
картину генезиса бестиария сна Татьяны. «Адские
привидения» в сновидении героини подчеркнуто зверопододобны. Эмблематические
животные, «ворон», «змей», «филин», «крысы», «петухи» встречаются в черновых
набросках пятой главы. Сохранилось несколько авторских вариантов первых строк XVII строфы. В каждом из них номинируют различные
животные: Там крысы в
розовой ливрее Там петухи в
цветной ливрее Там ворон в
голубой ливрее (V, 598)[10]
Или: Там
суетливый еж в ливрее (V,
598) Следующий вариант: Там змей в
очках, там еж в ливрее, Там филин на
крылатом змее. (V, 598)
Первоначально
автор использует традиционную для сказок демонологическую образность и мотив
превращения злых духов в животных. Но в «чудном сне» звери,
подобно людям, одеваются в
ливреи, носят очки. В окончательном варианте бестиарий значительно
трансформируется, являя
собой сплав культурных традиций
изображения адских тварей.[11] Изощренные
характеристики демонических сил широко представлены в западноевропейской
культуре.[12] Для
художественной системы средневековья
характерно сознательное утрирование нечеловеческой сущности нечистой силы.
Религиозные проповедники, монахи-писатели и светские художники намеренно пугали
читателя и зрителя, подробно расписывая отвратительный и мерзкий облик падших
ангелов. В
искусстве раннего средневековья Сатана и
его слуги изображались в виде различных зверей (волка, обезьяны, змеи). Но в
дальнейшем иконография самым причудливым образом совмещает в себе черты разных
животных. Такова эстетика зловещей красоты инфернальной галереи И. Босха, У.
Графа, Л. Бретона, А. Дюрера, А.
Шонгауэра, Н. Грюнвальда, Л. Кранаха.
Строфы
XVI-XVII возможно
представить в виде серии графических офортов. В поэтических строках
присутствуют движение, концентрация изображения, четкая композиция и, что
особенно сближает их с серийными тематическими офортами, скрытый авторский
подтекст. Образность чудищ тесно
связана с традициями европейского изобразительного искусства: галерея «шайки
домовых» ассоциируется инферналиями И. Босха, П. Брейгеля, Ж. Калло. И дело не
только в сходных чертах, которые были распространенным топосом в европейском
изобразительном искусстве. Мы имеем в виду общность манеры, графического
«языка» и стиля подачи материала. Фигуры
«адских привидений» линейно устремлены вверх, некоторые из них принимают
геометрические формы. Рога, борода ведьмы, остов, полужуравль, возвышающиеся
конструкции («рак верхом на пауке» , «череп на гусиной шее»), мельница – все
эти фигуры, словно зловещие тени, линеарно вытянуты в длину. Подобный
изобразительный принцип характерен для гравюр Ж. Калло,[13] искусство которого находилось в прямом творческом
«родстве» с фантасмагориями И. Босха и П. Брейгеля. Строфы
XVI, XVII, XIX можно соотнести с
экспрессивными образами серии «Капричос» (1797-1799), с гротескной манерой Гойи. Серия из 80 эстампов изображает
причудливых существ: птицы с человеческими головами, крылатые животные с
кошачьими лапами, оскаленные черепа, рога, когти, копыта, шипы… Устрашающие
своей неестественностью, чудища композиционно
группируются в угрожающую тучу, рой, круг. Подобно бесам
с офортов испанца, «шайка домовых» также находится в постоянном агрессивном движении –
«вертится», «пляшет», «машет». Безоговорочно
признать непосредственное знакомство Пушкина с наследием Гойи пока
затруднительно. Тем не менее актуальным остается вопрос об общих принципах стиля изображения и типологическом
сходстве образов.[14] Гротескная
манера Гойи и Пушкина, смелая игра со светотеневыми контрастами, сгущенная
эмоциональная окраска, широкий спектр семантической интерпретации подтверждают
это сближение. Фантастика
Пушкина изощренно соединяет несовместимые черты живого и неживого организма,
заставляет двигаться неодушевленные предметы. Эффект усиления монструозности
прослеживается от образа к образу, от строки к строке. Зловещие зооморфные «лики» бесов: Один в рогах с собачьей мордой, / Другой с
петушьей головой, / Здесь ведьма с козьей бородой / Тут остов чопорный и
гордый, / Там карла с хвостиком, а вот / Полужуравль и полукот (V, XVI)
сменяются невообразимыми чудовищами, каких может создать только фантазия,
свободная от каких-либо литературных штампов: Еще страшней, еще
чуднее: Вот рак верхом на пауке,/ Вот череп на гусиной шее/ Вертится в красном колпаке…(V, XVII). В
нашей памяти сами собой всплывают образы картин И. Босха. Рискнем
предположить, что в данном случае возникает
эффект «вторичного» восприятия. Знакомые, «заготовленные» нашей памятью
образы накладываются на пушкинские строки и диктуют типологию сопоставления. Так
возникает своеобразная литературная «иллюстрация», когда «словесный текст апеллирует к воспоминанию
картины, гравюры или другого произведения изобразительного искусства,
типологически близкого или хорошо знакомого автору и его аудитории».[15] Обостренный
интерес ко всему загадочному, необъяснимому, мистическому очевиднее всего можно
наблюдать в так называемые переломные периоды истории, например в России после
поражения восстания декабристов, или на рубеже XIX и XX веков, или, наконец, в
наши дни[16].
Сновидение Татьяны можно представить как
синопсис в жанре столь популярных сегодня
триллера или фэнтези. По законам действия обстановка постепенно нагнетается: героиня
убыстряет шаг, сказочный (волшебный) лес становится зловещим и опасным.
Внезапное появление «большого, взъерошенного медведя», направленное движение к
загадочной цели, таинственное
пожелание-указание «погрейся у него немножко», внезапное исчезновение страшного провожатого усиливают драматическое
напряжение, волнение и тревожное ожидание чего-то мистического, «ужасного» и «кошмарного». Место
действия в шалаше – небольшая площадка, где плотно сгрудились фигуры, выставленные на первый план, на авансцену. За
ними нет ничего, мир кончается… В отсветах коротких вспышек молний появляются
чудища: страшный «нечеловеческий»
уродливый мир, от столкновения с которым немеют чувства героини. Сцены
в замкнутом пространстве шалаша выстроены по принципу контраста. Татьяна узнает
«того, кто мил и страшен ей», а
пронзительная догадка («Он здесь хозяин… это ясно») окончательно представляет «героя нашего
романа» в образе таинственного существа. В дальнейших эпизодах демонизм героя усиливается до крайности,
возникает ассоциация с вампиром и другими «перерожденными», вечными скитальцами
двоемирия. Сон Татьяны, отображая всю сложность психологического
образа героини, в сознании и бытовом поведении которой уживались следование
архаичным традициям с «литературными» ситуациями, дает импульс к новым научным поискам,
сопоставлениям и находкам. У
всех гениальных творцов были свои выдающиеся предшественники. Но контрапунктную
силу, наиболее оригинальное выражение новые идеи обрели у гениев. И таким
бесспорным явлением в русской культуре по праву считается А.С. Пушкин. [1] Среди многочисленной литературы, посвященной анализу
сна Татьяны, назовем работы, в той или иной степени касающиеся темы данной статьи: Маркович
В. М. 1) О мифологическом подтексте сна Татьяны // Болдинские чтения -
Горький, 1981. С.69–81; 2). Сон Татьяны в поэтической
структуре “Евгения Онегина” // Маркович В.М.
Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы: Статьи разных лет. СПб.:, 1997.
С.8 – 29; Тамарченко Н. Д. Сюжет сна Татьяны и его источники //
Болдинские чтения. Горький, 1987. С. 107–
126; Гачев Г. “Попугай!” Черномор и
Сон Татьяны // Опыты: литературно - философский ежегодник. М, 1990. С.214–220; Фортунатов Н. М. Рассказ
и новелла в пушкинской романной системе // Болдинские чтения. Н. Новгород,
1994. С. 79– 87; Викторович В.А. Сон Татьяны // Онегинская энциклопедия /под общ.
ред. Н.И. Михайловой. В 2 т. Т .2.: Л-Я.
М., 1999. С. 519–521. К проблемам образности сна Татьяны мы обращались
ранее в статье: Камалова (Розина) И.В. Фольклорные
и литературные основы сна Татьяны в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» //
Фольклор народов России: Фольклор и фольклорно-литературные взаимосвязи:
Межвуз. науч. сб. Уфа, 2000. С. 102–109. [2]См.: Иезуитова
Р.В. Глава пятая // Онегинская энциклопедия. Т.1.: А-К. М., 1999.
С. 275–281. [3] А.С. Пушкин увлеченно записывал народные сказки и
песни. По его замыслу, многие русские писатели собирали фольклор для сборника
братьев Киреевских. Подробнее см.: Акимова Т.М. Литература и фольклор // Фольклор народов РСФСР. Межвуз. науч. сб. Уфа, 1984. С. 100–112. [4] См.: Померанцева
Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975; Гура
А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997; Иванов В.В., Топоров В.Н. Медведь // Мифы
народов мира. Энциклопедия: в 2 т. /гл. ред. С.А.Токарев. М., 1992.
Т.2. С.128–130; Гура А.В. Медведь //Славянская
мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 255–258 [5] См.: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники: (Опыт
историко - этнографического исследования). СПб., 1995; Иванов В.В., Топоров В.Н. Медведь // Мифы народов мира. Т.2. С.128–130;
Гура А.В. Медведь. С. 255–258. Культ
медведя развит на Верхней Волге и Новгородчине, на русском Севере; у эстонцев
и литовцев, хантов и манси, вепсов,
мордвы, коми. Подробнее см.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования
в области славянских древностей. М.,
1974; Киреев А.Н. Культ медведя в древних верованиях и отражение его в
фольклоре башкирского народа // Фольклор народов РСФСР . Межвуз. сб. Уфа, 1979. С. 133–137. [6] Набоков
В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» /пер. с англ. СПб.,
1998. [7] Филипповский Г.Ю. Медведь // Онегинская энциклопедия /под общ. ред.
Н.И. Михайловой. В 2т. Т.2.: Л–Я. М., 2004. С.102–103. [8] Иллюстрации к роману «Евгений Онегин» появились в 1829 г. (художник
А.Нотбек, гравюры выполнили С. Галактионов, Е. Гейтман, А. Збруев, М. Иванов,
И. Ческий). О «книжной пушкиниане» подробнее см.: Три эпохи музея. [Электронный ресурс]. URL: http://www.museumpushkin.ru/archive/?c=3(режим доступа – свободный). Дата последнего обращения 06.04.2014. [9] См.: Бродский Н.А. Евгений Онегин. Роман
А.С.Пушкина. М., 1957. С. 241; Лотман Ю.М. «Евгений Онегин».
Комментарий//Лотман Ю.М. Пушкин.
СПб., 1995. С. 657. [10] Пушкин А.С. Полн. собр.
соч.: в 10 т. М.: Наука, 1977–1979. Т. V. С. 598. — Далее при
цитировании романа «Евгений Онегин» (т. V) в тексте будут указываться глава
(первая римская цифра) и строфа (вторая римская цифра). [11] Одним из первых отметил западноевропейский характер
нечисти в сновидении Татьяны В. Боцяновский в статье «Незамеченное у Пушкина» (Вестник литературы.
Пг., 1921. № 6/7. С. 2–4.) [12] См.
подробнее: Махов А.Е. Hortus daemonum. Словарь
инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения. М., 2014.
С. 128–138 [13] См.
серию офортов Ж. Калло «Большие бедствия
войны» (1633), «Нищие» (1622); офорт «Два комедианта» (1622), гравюру
«Искушение Святого Антония». [14] О сближении стихотворения Пушкина «Бесы» с гравюрами Гойи размышлял Ю.
Карякин. См.: Карякин Ю.Ф. Пушкин и Гойя. //
Неделя. Приложение к газете Известия. 1975 № 23. С. 10–11. [15]Марченко Н.А. Структура
изобразительных образов в произведениях А.С.Пушкина//Пушкинские чтения в Тарту.
Тезисы докл. науч. конференции (13–14 ноября [16] О феномене нечисти в современной масскультуре см.: Секацкий А.К. Выбор вампира // Секацкий А.К. Прикладная метафизика. СПб., 2005. С. 120–189; Хапаева Д. Готическое общество: морфология кошмара. 2-е изд. М., 2008; Михайлова Т., Одесский М. Граф Дракула. Опыт описания. М., 2009; Головачева И. Опасные связи: человек и монстр в современной массовой литературе // Неприкосновенный запас. 2012. № 6 (86). С. 144–162. Публиковалось: Риторика бестиарности: сб. статей. Издательство Intrada, Москва, 2014. - С. 50-55 | ||
12.06.2016 г. | ||
Наверх | ||


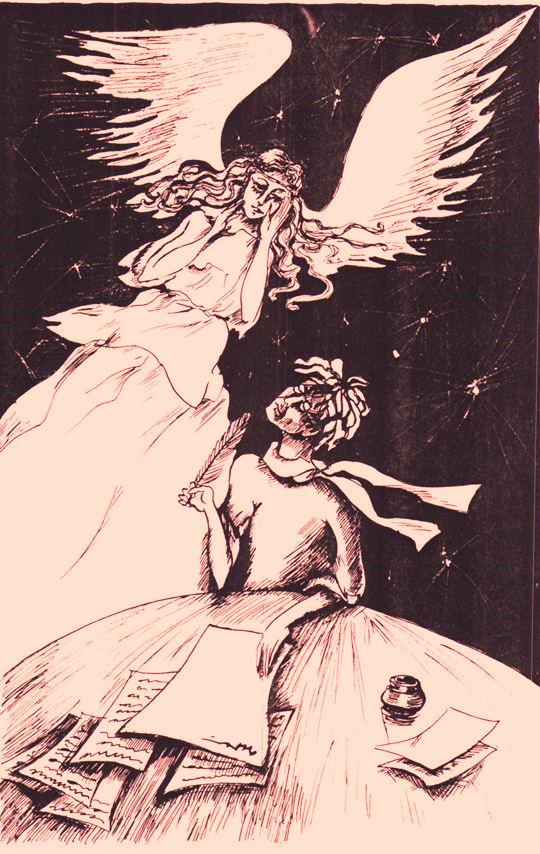
 Культуролог в ЖЖ
Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК
Культуролог в ВК
