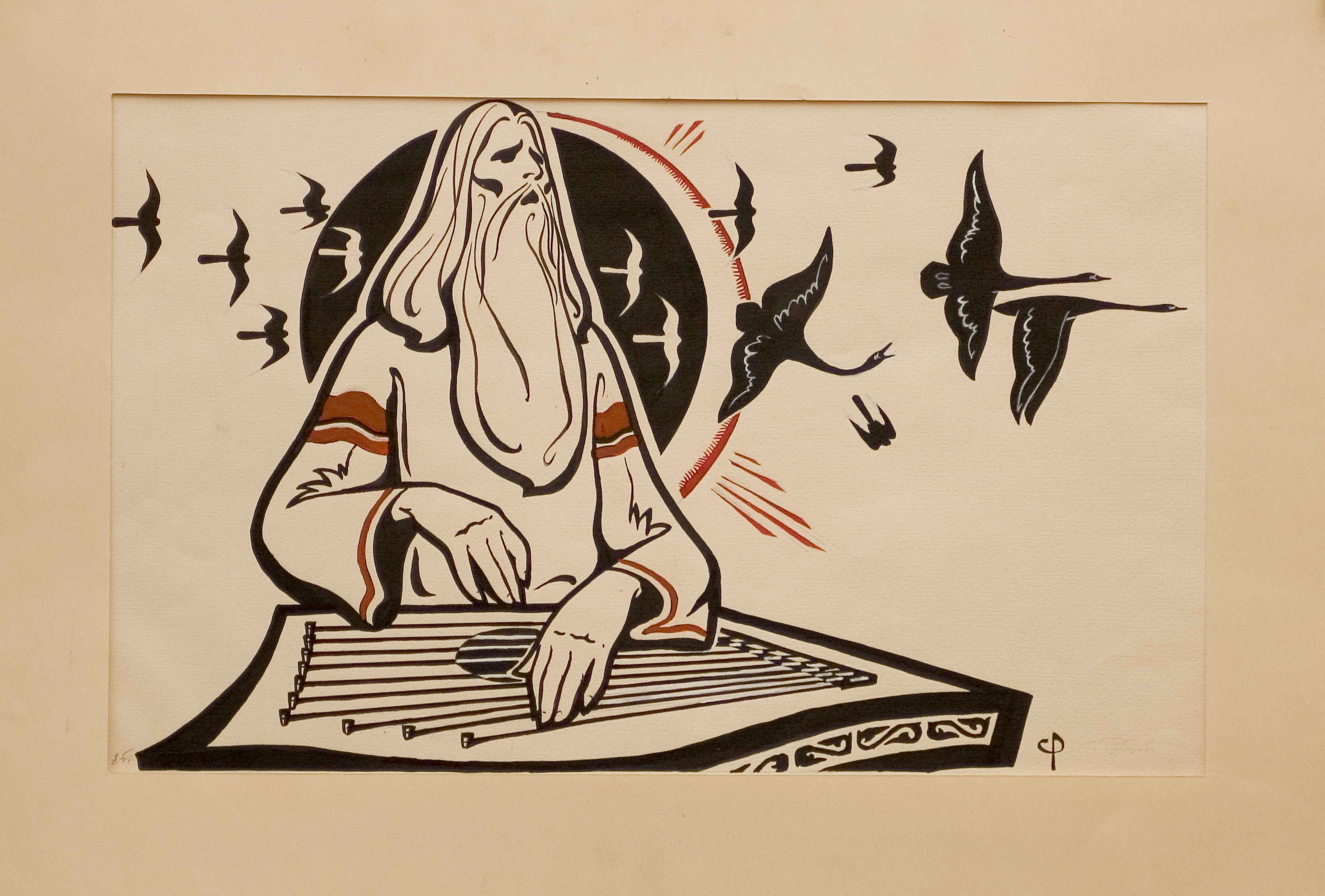О средневековой письменности и современной литературе |
От редакции: Евгений Водолазкин - сотрудник Института русской литературы РАН и автор интересных и неординарных книг - в настоящей статье пытается оправдать постмодернизм, дать ему в целом положительную оценку. Это объясняется не только и не столько сочувствием к постмодернизму - автора собственно постмодернистом назвать нельзя, хотя в постмодернистскую среду, бытующую в современной русской литературе, он, несомненно, входит. Главная же причина, думается, в другом: видя, как постмодернизм осваивает ткань современной культуры, преобразуя её по своему канону, и не обнаруживая причин, по которым ему не удастся освоить её всю (или почти всю), довольно искусительно примыслить себя к числу титульных лиц новой культурной эпохи, ведь в противном случае придётся самоопределиться в виде культурного маргинала, рискуя выпасть из-под внимания истории. Вот и приходится рассматривать постмодернизм под углом исторического оптимизма, ведь нужно же как-то оправдать свой выбор. Между тем, несмотря на явную натянутость позитивных интерпретаций рассматриваемых параллелей новой эпохи к Средневековью, раскрытие в данной статье механизмов постмодернисткого мировосприятия представляет собой несомненную ценность. И то, что мы наблюдаем сегодня очередной виток в движении по спирали, выражающийся в отказе от принципов классической культуры, - ценное наблюдение. Мы расходимся с Е. Водолазкиным, прежде всего, в оценке направления, в котором раскручивается спираль. По нашему мнению она идёт вниз, он же считает, что вверх. Безусловную ценность статьи также составаляет анализ структуры мироощущения, вполощенного в средневековой литературе, произведённый автором на основании древнерусского материала.
(Публиковалось: Текст и традиция : альманах, 1 / Ин-т рус. лит.
(Пушкинский Дом) Рос. акад. наук, Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
— Санкт-Петербург : Росток, 2013. — 432 с. С. 37-55) Занимаясь сопоставлением
разновременных эстетических систем, мы, по сути, имеем дело с поставленными
друг против друга зеркалами. Их совокупное изображение значительно превосходит
то, что способно отразить каждое из зеркал. В какой-то степени это выход в иное
измерение. И хотя, по слову Георгия Иванова, «Друг друга отражают зеркала, /
Взаимно искажая отраженья», даже искажения по-своему симптоматичны. Они
заставляют сомневаться в отражениях, побуждают задуматься о закономерности или
случайности подобия. Иными словами, мы начинаем тщательнее взвешивать
замеченные аналогии, помня предостережение Освальда Шпенглера о том, что нет
ничего опаснее мнимого сходства.(1) Кроме того, древность — и это тоже свойство
многократного отражения — несмотря на завершенность во времени, не остается
неизменной, поскольку не только ранние тексты влияют на позднейшие, но и
позднейшие тексты определяют прочтение более ранних.(2) Отталкиваясь от литературы Нового
времени, медиевистике удалось в свое время отрицательным образом определить
целый ряд свойств средневековой письменности. Медиевистика искала в
Средневековье то, чего в литературе Нового времени нет. Мне представляется, что
нынешний уровень знаний о средневековых текстах — с одной стороны, и изменения,
происходящие в современной литературе, — с другой, постепенно подводят нас к
противоположной задаче: попытаться определить, что в современной литературе
есть (появилось) от ее средневековой предшественницы. Поскольку сопоставляемые
тексты принадлежат к разным эстетическим системам, я буду пользоваться принятым
разделением на «литературу» и «письменность», определяющим соответственно Новое
время и Средневековье. Тема сходства новейшей литературы (и, в частности,
постмодернизма) со средневековой звучит уже довольно давно.(3) Задача данной
работы — расширить медиевистическую часть этого сопоставления русским
материалом. В первой части статьи я хотел бы
остановиться на чертах средневековой письменности как гармоничной и
самодостаточной культурной системы. Во второй части — указать на некоторые
черты, сближающие современную словесность со средневековой. Древнерусская
эстетическая система успешно работала на протяжении многих веков, и одна уже
длительность функционирования наводит на мысль о ее высокой стабильности и продуктивности.
С тем бóльшим основанием можно полагать, что сходство отдельных ее черт с
современностью также не случайно. Начну с присущей средневековой
письменности фрагментарности. Используя выражение, применявшееся в первую
очередь к историческому повествованию, средневековую письменность можно назвать
литературой ножниц и клея. Новые тексты в значительной степени (степень зависит
от жанра) складывались из фрагментов старых текстов. Фрагментарность
проявлялась на разных уровнях. В свое время я предложил различать два типа
(уровня) фрагментов — структурную единицу
повествования и единицу текста. (4)
Первая отражает то или иное событие (явление, временной период), вторая —
обозначает пределы текстуального заимствования из предшествующего источника,
которые могут совпадать с описываемым событием, но могут и не совпадать. Так,
одно событие может быть описано на основании нескольких источников — или,
наоборот, большой фрагмент заимствованного текста может описывать несколько
событий. Существенную роль играет то, что в Средневековье слова, пользуясь
выражением М. Фуко, были неразрывно соединены с вещами.(5) Это, впрочем, не означало, что
слова находились в крепостной зависимости от вещей. Средневековый книжник
осознавал, что на свете очень много близких явлений, и сходные явления описывал
посредством сходных (чаще — тех же) текстов. Так, рассказывая в Повести
временных лет о смерти Святополка,(6) летописец использует два фрагмента,
заимствованных им из Хроники Георгия Амартола: один об Антиохе Эпифане, другой
— об Ироде. Бегство Святополка и смерть его в чужой земле приводят летописца к
мысли использовать текст, описывающий сходную судьбу Антиоха, а то, что
Святополк «окаянный», дает повод заимствовать текст, относящийся к «окаянному»
же Ироду.(7) Иные основания для использования текстов предшественников были у
агиографа, когда для жизнеописания святого привлекалось житие его небесного
патрона.(8) В русле использования «общих текстов» особое место занимает
агиографическая топика, изучение которой играет важнейшую роль в понимании
средневековой культуры.(9) Сходные сущности, с точки зрения древнерусского
человека, вполне могли иметь сходное выражение. Обогащение текста за счет
инородных вставок в Средневековье вообще играет значительную роль. «Украшение»
и распространение житий было типичным при создании их новых редакций;
«наращивание» текста являлось основным методом создания историографических
сочинений. Максимальная полнота сведений о предмете ставилась чаще всего выше
соблюдения пропорций сочинения. Так, в результате добавлений текста к
Хронографу по Великому Изложению образовались объемные, но гораздо менее
изящные компиляции.(10) Венец ранней русской хронографии
— Летописец Еллинский и Римский Второй редакции — произведение столь же
насыщенное разнообразными сведениями, сколь и непропорциональное: достаточно
сказать, что в него был включен перевод целого эллинистического романа —
Александрии Псевдокаллисфена. Названный Д. С. Лихачевым «самой круп- ной
литературной энциклопедией русского Средневековья»,(11) Летописец представляет
собой конгломерат разнообразных текстов, различных по стилю, структуре и
объему. Может показаться, что многие из включенных в Летописец фрагментов
являются «лишними», — речь здесь в первую очередь идет о коротких назидательных
историях (exempla), существующих, по сути, вне времени и пространства. Это,
однако, не так. Текстология говорит нам о том, что фрагменты текста могут и не
состоять в прямой связи, связываясь «глобальной темой», той макроструктурой, к
которой принадлежит текст (речь об этом пойдет ниже).(12) И хотя, на взгляд нынешнего
читателя, Летописец значительно уступает легшему в его основу Хронографу по
Великому Изложению, компактному и прекрасно структурированному тексту, — с
точки зрения читателя средневекового, текст Летописца был близок к идеалу.
Такой же вывод можно сделать и о некоторых сборниках, например, — о
«Старчестве», движение редакций которого шло по пути увеличения объема текста.
(13) Распространение текста характерно
не только для русского Средневековья. Так, отмечая, что «процесс
распространения средневековый человек рассматривал как самые сердце и душу
писательского ремесла», В. Райдинг приводит целый ряд примеров распространения
текстов в старофранцузской литературе: в XI веке текст Vie de Saint Alexis состоял
из 625 стихов, а в редакции XII века — из 1356 стихов; Chanson de Guillaume на-
считывала 3554 стиха, а ее позднейшая переработка — 8500 стихов, и т. д.(14)
Дело здесь не в пристрастии к большим объемам текста, а в любви, повторюсь, к
полноте истины. Эта любовь толкала древнерусских
книжников на включение в их тексты заведомо противоречащих друг другу данных.
Сведения разных источников не только сопоставлялись друг с другом, но,
случалось, просто помещались рядом без каких-либо комментариев. В глазах книжника
это, вероятно, гарантировало, что по крайней мере часть сведений будет
соответствовать истине, а уж какая именно — тем или иным образом может
проявиться впоследствии. Не исключено, что даже не вполне соответствующие
истине данные могли как-то дополнять данные безусловно истинные, поскольку
истина не одномерна. Так, в Краткой Хронографической Палее Первый собор
датируется 12-м и — в другом месте — 20-м годом царства Константина.(15) В этом
же памятнике одна за другой помещены две взаимоисключающие версии рассказа об
Исаве и Иакове.(16) В Основной редакции сборника «Старчество» сказано о том,
что инок не может иметь ничего своего. Создавая Распространенную редакцию,
древнерусский книжник к старому тексту добавляет новый, содержащий, среди
прочего, разрешение иноку обладать имуществом.(17) Безудержному дроблению
средневековых текстов противостояла не менее мощная тенденция к их объединению.
Вместе эти два течения создавали равновесие, необходимое для функционирования
системы. Помимо наращения текста внутри произведения (термин применительно к
Древней Руси весьма условный), Средневековье создало огромное количество
компиляций, объединяющих не фрагменты, а отдельные произведения. Речь идет о
сборниках постоянного и непостоянного состава, организованных по тематическому,
хронологическому и другим принципам.(18) Здесь же можно вспомнить и об
иерархической системе древнерусских жанров, в которой первичные жанры
объединяются в более сложные системы.(19) Движение средневекового текста
способно осуществляться в противоположных направлениях — как в сторону
распространения, так и в сторону сокращения. В противовес основной тенденции к
распространению некоторые тексты имели свои сокращенные версии. Если
распространение текста было вызвано следованием принципу полноты, то сокращение
обусловливалось более утилитарными причинами. Одной из таких причин могла быть
необходимость включения сочинения в сборник (например, в Пролог). Нередко
сокращение текста являлось по сути выборкой. Дидактическими и справочными
целями диктовалось создание многочисленных «кратких летописцев» и «летописцев
вскоре»: создателей этих сочинений интересовала преимущественно хронология.(20)
Многие тексты так называемых «энциклопедических» сборников являются
заимствованиями «естественнонаучных» фрагментов Толковой Палеи с опущенной
толковательной частью.(21) Как при распространении, так и
при сокращении текстов изменяется не только их объем или «внешняя» граница, но
зачастую и жанровый облик. В качестве примера можно привести работу создателя
Краткой Хронографической Палеи с его источником — Палеей Толковой: под пером
книжника из текста толковательного Толковая Палея превращается в текст
нарративный. Наконец, оба способа работы с текстом нередко включают в себя и
замену одних текстов другими. Так, скажем, в Русском хронографе фрагменты
Хроники Амартола уступают место фрагментам Хроники Константина Манассии. Между структурными единицами
повествования в Средневековье не существует, как правило, причинно-следственной
связи.(22) Наиболее очевидно это проявляется в области средневековой
историографии, где, в отличие от историографии современной, события не следуют
одно из другого: всякое новое событие является в определенном смысле новым
началом.(23) Если в современном историческом повествовании структурной единицей
является событие, то в Средневековье это либо год (в летописи), либо
царствование (в хронике или хронографе). Но даже в тех средневековых жанрах,
где структурной единицей повествования служит событие (например, в агиографии),
причинно-следственная связь также отсутствует. Жития состоят из мелких сюжетов,
которые нанизываются один за другим на «временную ось» и не являются, за редким
исключением, причиной друг друга: потому основой композиции средневековых
повествовательных (т. е. нетолковательных) жанров является по преимуществу
хронология. Подобно событиям историографии, причины (или причина) событий
агиографических лежат вне их ряда: они пребывают в сфере провиденциального. Центонная структура текста,
наиболее ярко выраженная в историографических жанрах, казалась книжнику
настолько естественной, что название текста становилось порой перечнем
использованных источников или описанных событий. Общее название предмета
повествования (история, всемирная история и т. д.) в таких текстах, как
правило, отсутствовало. Вот как выглядит название уже упомянутого Летописца
Еллинского и Римского: «Лѣтописець Еллинскии и Римскии. Сия книги списаны не
изъ единѣх книгъ, нъ от различенъ истинныхъ и великыхъ по исправлению многу:
Моисеева истинная сказания, и от Четырех Царствии, и от пророчьствиа Георгиева,
по истинѣ изложена, и от Ездры, и от Истирии, и от Азматъ Азматьскых, и
Патаухика, и еще же от Иоаннова гранографа и Антиохиискаго, иже вся еллиньскыя
акы бляди сплетения словесъ, и капищь идольскыя требы, приносимыя им, откуду и
како бѣаше. Сиа книги писаны бытиискыя от Тетровасилия».(24) Ярким свидетельством восприятия в
Средневековье произведения как текста центонного являются особенности создания
Полной Хронографической Палеи на основе Палеи Толковой, впоследствии поставившие
в тупик не одного медиевиста. Толковая Палея включает в себя фрагменты
разнообразных источников. В Полной Палее содержатся примерно те же фрагменты,
но в значительно расширенном виде. Часть исследователей считала, что Полная
Палея возникла из Толковой Палеи путем кропотливых последовательных добавлений
текста к каждому из источников. Другие же полагали, что Толковая Палея возникла
из Полной в результате сокращения последней. Представители этой точки зрения
апеллировали к здравому смыслу, указывая на то, что невозможно, чтобы
средневековый книжник разыскивал источники Толковой Палеи, а потом вставлял из
них по нескольку фраз, расширяя исходный текст и создавая Полную Палею. Им
казалось, что гораздо логичнее представить себе противоположное — создавая
Толковую Палею, книжник сократил Полную. Правда оказалась на стороне тех, кто
не полагался на здравый смысл: книжник привлекал полные тексты источников
Толковой Палеи и по этим полным текстам осуществлял свои добавления.(25) Ввиду всего сказанного может
создаться впечатление, что в мире средневековых текстов царит броуновское
движение, ничем не ограниченное соединение или — наоборот — фрагментирование
текстов. На деле, однако, это не так: в движении текстов существуют свои
закономерности. Стабильность средневекового
текста во многом зависела от его близости к Священному Писанию, вне всяких
сомнений, главному тексту Средневековья. Священное Писание — текст текстов,
стоявший в центре духовной жизни человека, — имело особую текстологическую
судьбу, определенную Э. Колвеллом как «контролируемая текстологическая
традиция».(26) Суть ее сводится к тому, что всякий новый список Священного
Писания изготавливался с привлечением не одной, а двух и более рукописей.
Посредством сопоставления рукописей контролировалась исправность священного
текста, и в движении от списка к списку это приводило к высокой его
стабильности. В сравнении с другими текстами, обращавшимися в Средневековье,
многочисленные списки Священного Писания демонстрируют минимальное количество
различий. Важно подчеркнуть, что к контролируемой текстологической традиции
принадлежит не только Священное Писание. Так, следы правки по другим спискам
содержит Хроника Георгия Амартола, текст которой по своей стабильности
сопоставим с библейским.(27) Это, на мой взгляд, объясняется тем, что в
значительной своей части Хроника представляет изложение библейских событий.
Высока стабильность текста Толковой Палеи, в которой библейские события не
только излагаются, но и толкуются. Если же взять шкалу стабильности средневековых
текстов на другом ее полюсе, полюсе максимального удаления от сакрального,
можно увидеть значительное изменение текстов. Так, очень разные варианты
представляет текстологическая история «Девгениева деяния», переведенного на
Руси византийского героического эпоса.(28) Самые удивительные трансформации
происходили с бытовавшими в древнерусской письменности текстами о монстрах. Следует оговориться, что высокая
стабильность текстов характеризует лишь полные их списки. Произведения, о
которых я упоминал, бытовали и в виде фрагментов. Эти фрагменты в дальнейшем
дробились или, наоборот, дополнялись фрагментами других текстов — как это
происходило, допустим, с церковнославянскими переводами византийских хроник.
Характерно, что главными донорами текста для дальнейших компиляций были не
отдельные списки хроник, а их фрагменты в составе древнерусских хронографов.
При этом, тем не менее, даже в мельчайших своих частях эти фрагменты сохраняли
в значительной мере ту же лексику и синтаксическую структуру, что и исходный
текст. Примерно до XVI века древнерусские тексты, входя в дальнейшие
компиляции, не столько пересказывались, сколько воспроизводились дословно.
Собственно говоря, средневековое заимствование вполне соответствует
современному определению цитаты, основным признаком которой считается
идентичный порядок знаков цитируемого и цитирующего.(29) Особое место в Средневековье
занимали библейские заимствования. В отличие от прочих цитат, они были
естественны в любом окружении, по- тому что манифестировали собой присутствие в
каждом конкретном про- изведении Священного Писания — текста текстов,
продолжением или конкретизацией которого являлись по большому счету все
остальные произведения.(30) В той или иной степени Священное Писание задавало
тональность большинства средневековых компиляций. Распадающаяся на фрагменты
магма средневековых текстов замыкалась, в свою очередь, на главном тексте
христианской письменности. Характерен фрагмент Повести
временных лет, посвященный нападению руси на Константинополь. Этот фрагмент
заимствован летописью из Хроники Георгия Амартола, описывающей нападение весьма
неодобрительно. Русский летописец, цитируя византийского хрониста, не
предпринимает ни малейших попыток отредактировать нелестное для русских
повествование: христианин-летописец смотрит на русских-язычников с тем же
неодобрением, что и христианин-хронист.
Ключ к миру Божьему — в Священном
Писании. Этот мир (в самых разных своих проявлениях) целен, а потому и
фрагменты текста, отражающие эти проявления, в известном смысле универсальны и
соединимы друг с другом. В Средневековье, этом котле фрагментированных текстов,
все работает на то, чтобы такая культурная система могла существовать. В
конечном счете сама эта система — лишь отражение особенностей персонального
сознания в Средние века: индивидуальное начало реализовывалось не столько в
горизонтальном направлении (отношения с людьми), сколько в вертикальном
(отношения с Богом). И уже через отношения с Богом устанавливались отношения с
людьми. Как отмечал Д. С. Лихачев,
средневековое искусство «стремится выразить коллективные чувства, коллективное
отношение к изображаемому».(31) Средневековье не имеет персонального стиля,
есть лишь стиль жанра, который вполне допускает включение разностильных
фрагментов. Историографические тексты нередко включают в себя жития (например,
в Летописец Еллинский и Римский вошло Житие Константина и Елены), а
богослужебные тексты — фрагменты летописных текстов (так, паремия Борису и
Глебу — летописного происхождения).(32) Поговорим о механизмах,
позволяющих средневековой центонной системе функционировать. Об отсутствии
привычных для Нового времени при чинно-следственных связей в изложении событий
я упоминал. Уже одно это представляет большие композиционные возможности. Хронология,
которая в большинстве случаев связывала события друг с другом, не являлась
непреодолимым препятствием для расстановки фрагментов в произвольном порядке.
Даже в историографических произведениях, наиболее неравнодушных ко времени,
отмечается множество анахронизмов. К примеру, Георгий Амартол, включая в свой
текст exemplum о некоем Евагрии, убирает детали и помещает рассказ на два века
позже реального времени события. Подобное же происходит у него и с эпизодом о
папе Григории.(33) Средневековые тексты изобилуют
разного рода хронологическими выкладками, опытами определения дат и
синхронизациями, но это напряженное внимание ко времени, вместе с тем, ясно
свидетельствует о том, что время — один из самых уязвимых компонентов средневекового
бытия. Недаром хронологические связи порой подменялись связями тематическими, а
то и алфавитными (например, в азбучных патериках). Древнерусские произведения не предполагают
непременной цельности характера. Характер в Средневековье — механическая сумма
качеств, которые проявляются в зависимости от ситуации.(34) Собственно говоря,
только такое построение характера и могло сосуществовать с фрагментарным
строением текста. Каждый фрагмент, потенциально способный сочетаться с любым
другим фрагментом, обладал, вместе с тем, высокой степенью автономности и
внутренней завершенности: подобно кусочку смальты в большой мозаике, он мог
быть лишь одного цвета. Фрагмент текста отражал тот или
иной фрагмент бытия, которое имеет свои повторы и рифмы. Средневековый книжник
чутко (порой, возможно, слишком чутко) улавливал эти рифмы и не задумываясь
отражал их посредством повторения текста. При таких операциях означающее меняло
свое означаемое, но это противоречие легко снималось указанием на тождество
старого означаемого новому. Здесь можно упомянуть уже приводившееся описание
Святополка через описания его «духовных предшественников». Новый контекст
библейских цитат неоднократно отмечался в творчестве протопопа Аввакума:
характеризуя врага, автор вкладывает ему в уста слова Иуды, характеризуя
раскаявшегося — слова блудного сына.(35) Говоря о легкости соединения
фрагментов между собой, следует отметить и особенности средневекового отношения
к субъекту высказывания. Он был не то чтобы неважен, скорее — уступал в
важности требованию истинности высказывания. Иными словами, имело значение не
столько то, кем сказано, сколько то, что сказано. Это было причиной
возникновения «странных речей» ряда древнерусских персонажей — преимущественно
отрицательных. Древнерусский книжник как бы не замечал того, что, произнося
«правильные» вещи, эти персонажи входят в непримиримое противоречие со своим
собственным образом. Обращаясь к своему войску, Мамай произносит: «Братьа
измаиловичи, безаконнии агаряне».(36) Боясь идти в огонь со Стефаном Пермским,
волхв Пам неожиданно переходит на язык псалмов: «Не мощно ми ити, не дерзаю
прикоснутися огню, щажуся и блюду приближитися множьству пламени горящю, и яко
сѣно сый сухое, не смѣю воврещися, да не „яко воскъ таетъ от лица огню” (Пс.
67: 3), растаю, да не ополѣю, яко воскъ и трава сухая, и внезапу сгорю и огнем
умру, „и ктому не буду” (Пс. 38: 14). И „кая будет полза въ крови моей, егда
сниду во истлѣние?” (Пс. 29: 10). Волшьство мое „переимет инъ” (Пс. 108: 8). И
будет „дворъ мой пустъ, и в погостѣ моем не будет живущаго” (Пс. 68: 26)».(37) С проблемой субъекта высказывания
(будь то фрагмент диалога или произведение в целом) тесно связана проблема
автора. Относительное безразличие к субъекту высказывания, о котором шла речь
выше, вносит свою специфику и в средневековое понимание авторства. Имя рядового
книжника не важно читателю — важен созданный им текст. Если учесть, что
письменная продукция изготавливалась из «полуфабрикатов», это вполне можно
понять. Впрочем, даже если бы эту продукцию книжник создавал исключительно
собственными силами, положение существенно бы не изменилось. Средневековый
автор (и в этом отношении обозначение «автор» условно) чувствовал себя в
широком смысле транслятором. Потому за небольшими исключениями средневековая
письменность анонимна. Отсутствие претензий на авторство как раз и придавало
естественности «плагиату» Средневековья, оно и было обратной стороной этой
медали. Впрочем, и анонимность имела свои существенные исключения. Безусловно
значимым было авторство Отцов Церкви. Эта значимость была столь высока, что
некоторые анонимные гомилетические тексты приписывались известным авторам,
прежде всего — Иоанну Златоусту.(38) Подписывались также те, кто имел на это
духовное или общественное право — Кирилл Туровский, Иван Грозный, протопоп
Аввакум. Еще одним фактором,
способствовавшим свободному соединению фрагментов, являлось фактическое
отсутствие границ средневекового текста. О границах текста можно говорить лишь
в отношении каждой конкретной его копии (списка) — только там они выражены
материально. Если же под текстом мы будем понимать всю совокупность списков, то
увидим, что граница эта подвижна. Текст Нового времени, несмотря на наличие
черновиков и редакций, располагает, как правило, «каноническим» вариантом,
определяющимся автором. В средневековом же тексте каждая копия является в той
или иной степени редакцией, подобно тому как всякий переписчик (еще раз к
вопросу об авторстве) — в той или иной степени соавтор.(39) Средневековые
редакции не обладают правами исключительности, и новая редакция не
перечеркивает старой: они существуют параллельно.
Средневековый текст
осуществляется в диахронии, он незавершен и незавершаем. Ярчайшим образцом
этого свойства является летопись, текст наиболее прочно связанный со временем,
которому дано продолжаться столько, сколько существует история. Другие тексты в
большей или меньшей степени также существуют в многообразии вариантов. Иными словами,
при отсутствии уточнения (текст редакции, извода, списка и т. д.) термин
«текст», применяемый к Средневековью, всякий раз характеризует определенную
динамическую систему с размытыми границами и структурой. Этому соответствует и
высокая открытость древнерусского предложения, обладавшего почти
неограниченными возможностями наращивания. Эта двойная — на уровне текста в
целом и на уровне предложения — разомкнутость также являлась важной
предпосылкой свободного соединения текстов. С точки зрения средневекового
текстообмена особый интерес представляет проблема восприятия. Средневековые
тексты обладали немыслимым для Нового времени долголетием. Войдя однажды в
оборот, они редко из него выпадали и продолжали переписываться до конца
Средневековья. В рамках одной компиляции спокойно могли уживаться тексты с
тысячелетней разницей в возрасте. Столь характерный для современности процесс
устаревания текстов Средневековью был знаком в самой незначительной степени.
Отсутствие идеи прогресса, ретроспективная направленность средневекового
сознания в целом лишали более «свежие» тексты преимущества. Более того: если уж
говорить о преимуществе, то им пользовалось все то, что несло на себе отблеск
первоначальности. В читательском восприятии одни
тексты соотносились не столько с другими текстами, сколько с повествовательными
моделями — летописной, житийной и т. д., — то есть с идеальным выражением того
или иного типа повествования. При таком положении вещей читательский опыт не
имел решающего значения для восприятия и уж во всяком случае — не использовался
для оценки эстетических качеств текста. В глазах средневекового читателя дежавю
— если таковое имело место — было не грехом, а достоинством, повторением
первоначального и бесспорного. Сами же тексты в его восприятии не стояли в
порядке своего появления, они были дехронологизированы и во многом аисторичны. Таковы особенности
внехудожественного восприятия текста, идея же художественности как системы (о
ней речь впереди) в полной мере свойственна лишь Новому времени. Эта идея неотделима
от присущего Новому времени прогрессистского сознания, подразумевающего
«перекрывание» одних художественных достижений другими, а в каком-то смысле — и
утверждение новых текстов за счет старых.(40) Кроме того, средневековые тексты,
за редкими исключениями, авторитарны. Авторитетны и авторитарны одновременно —
если использовать терминологию М. М. Бахтина: «Авторитарное слово требует от
нас безусловного признания, а вовсе не свободного овладения и ассимиляции со
своим собственным словом. Его нельзя разделять: с одним соглашаться, другое
принимать не до конца, третье вовсе отвергать. Поэтому и дистанция по отношению
к авторитарному слову остается неизменной на всем его протяжении: здесь
невозможна игра дистанций — слияния и расхождения, приближения и отдаления».(41)
Таким образом, авторитарный текст является по большей части внехудожественным
феноменом. Говоря «по большей части», имею в виду, что авторитарность
эксплицитно выражена далеко не в каждом средневековом тексте, но если иметь в
виду, что все средневековые тексты в той или иной степени представляют
Священное Писание, текст текстов, то можно утверждать, что им передается и
особое восприятие последнего. Средневековый читатель
воспринимает текст как нефикциональный, как «то, что было в реальности».
Последним являлось не только то, что было, но и то, что должно (или даже могло)
было бы быть. Долженствование отождествлялось с действительностью, и это (а не
склонность к фальсификациям) заставляла средневековых книжников включать,
например, христологические интерполяции в текст Иосифа Флавия. Ведь если Иосиф
был всему «самовидцем», то не говорить о Христе он просто не мог. Иные примеры
средневекового отождествления должного с бывшим предоставляет древнерусская
агиография. Выше уже упоминалось о том, как, строя жития новых святых по
образцам житий древних, агиограф нередко заимствует фрагменты с описаниями
событий. Он исходит из того, что подобие новопрославленного святого его
небесному патрону выражается не только в имени, но и в словах и поступках. Нельзя сказать, чтобы по
отношению к «реальности» Средневековье обладало повышенной чуткостью. С одной
стороны, оно могло умножать ее сущности, с другой же — оспаривать то, чего нет.
Интересен феномен Толковой Палеи — полемического антииудейского памятника, появление
которого в начале XIV века не имело, насколько сейчас можно судить, никаких
исторических предпосылок. Разгадка причин появления этого текста лежит, на мой
взгляд, в том, что он следует не столько реальности истории, сколько реальности
жанра, принадлежащего к тысячелетней богословской традиции. Эта традиция
исторически начиналась как полемика, но впоследствии превратилась в апологию,
сохранив при этом полемическую форму.(42) «Реальность» была, в сущности,
одним из топких мест Средневековья. Многое из того, что тогда входило в сферу
«реального», сейчас едва ли было бы к ней отнесено. Даже заведомые, как сказали
бы теперь, выдумки средневековая культура стремилась до конца «отработать» на
предмет их реальности. Так, внешний вид монстров, описания которых заимствованы
у Плиния, средневековые книжники пытались объяснить тем, что люди предались
своим порокам — и их внешний вид стал соответствовать их мыслям (иногда,
впрочем, проявления уродства толковались и в положительном ключе: так,
существование людей с огромными ушами объяснялось их стремлением слушать слово
Божие).(43) «Реалистическим» образом интерпретировалась и греческая мифология.
Посредством евгемеровских толкований она встраивалась в реальность Библии, и в
результате этих построений Хронос оказывался сыном Ноя и отцом Зевса, последний
же объявлялся царем Ассирии.(44) И только в самом безнадежном
случае Средневековье шло на крайнюю меру: объявляло то или иное высказывание
ложью. В вопросе правды и лжи не было, по сути, полутонов — места не находилось
даже для «художественного» вымысла. Древнерусская литература не признавала
вымысла ни в каком виде. «Сочинение, — отмечал Д. С. Лихачев, — со
средневековой точки зрения, — ложь».(45) Это касалось даже жанров, которые мы
по привычке рассматриваем как художественные. Неразличение реальности
повествования о событиях и реальности притчи настолько очевидно, что порой
предлагается различать их как сюжетное и псевдосюжетное повествование.(46) То
же можно сказать и о восприятии exemplum — коротких нравоучительных рассказов,
высокая степень обобщения которых не отменяла в глазах средневековых читателей
их исторической природы. Означающее, имея неразрывную связь с означаемым,
продолжало вести и собственную «реальную» жизнь. В этом отношении можно
уверенно сказать, что средневековый человек видел текст как действительность, а
действительность как текст. Средневековью было свойственно
рассматривать мир как систему знаков, в которой любое явление неслучайно,
потому что несет в себе определенное послание. Истолкованию этих посланий были
посвящены многие средневековые тексты. Значение исторических событий объясняла
уже упоминавшаяся Толковая Палея. В событиях Ветхого Завета она видела
предзнаменование событий Завета Нового. О том, насколько для древнерусского
книжника была важна прообразовательная сторона дела, говорит вопрос,
поставленный им от имени воображаемого читателя: отчего Бог не открыл Иакову,
что сын его Иосиф жив? Оттого (отвечает сам же книжник), что тогда судьба
Иосифа сложилась бы иначе — и он не смог бы стать прообразом Христовой страсти.(47)
«Физиолог» толковал свойства животных. Рассказывая о льве, книга говорит, что
львенок рождается мертвым, и лишь через три дня лев вдыхает в него жизнь: так и
Вседержитель воскресил в третий день Христа.(48) Знаками служили звезды,
кометы, землетрясения, наводнения и, конечно же, числа. Для изучения проблем
знака и значения Средневековье — в высшей степени благодатный материал.(49) При обсуждении проблем
«реальности» речь уже шла о фикциональном. Фикциональное— это то, что повествует о несуществующем, вымышленном — фиктивном (наиболее последовательно два этих термина различаются в
немецкой науке).(50) Говоря о фикциональном, мы входим в область художественного
— самую, возможно, зыбкую область применительно к Средневековью. Говоря о структуре
художественного текста, Ю. М. Лотман писал: «Для того чтобы общая структура
текста сохраняла информативность, она должна постоянно выводиться из состояния
автоматизма, которое присуще нехудожественным структурам. Однако одновременно
работает и противоположная тенденция: только элементы, поставленные в
определенные предсказываемые последовательности, могут выполнять роль
коммуникативных систем. Таким образом, в структуре художественного текста
одновременно работают два противоположных механизма: один стремится все
элементы текста подчинить системе, превратить их в автоматизированную
грамматику, без которой невозможен акт коммуникации, а другой — разрушить эту
автоматизацию и сделать самое структуру носителем информации».(51) Баланс двух отмеченных Ю. М.
Лотманом тенденций в Средневековье и в Новое время осуществляется совершенно
по-разному. Если в текстах Нового времени нарушение (обновление новыми
элементами) структуры идет до тех пор, пока это позволяет система, то в текстах
средневековых все происходит ровно наоборот: прежняя структура отстаивается со
всей последовательностью, какую только позволяет новый материал. Тексты Нового
времени имеют четко выраженную футуристическую ориентацию, основа их
художественности — обновление. Движущая сила средневековых текстов — в
повторении, их ориентация ретроспективна. Понятие художественности Ю. М.
Лотман распространяет на все этапы словесного творчества, объединяя здесь Средневековье
и Новое время. В этом пункте, однако, необходима определенная осторожность.
Например, художественность Слова о Законе и Благодати (текста, как известно,
многоуровневого) исследователь видит в том, что «разные значения одного
элемента не неподвижно сосуществуют, а мерцают».(52) Мне представляется, что в
данном случае у нас недостаточно оснований говорить об «игровом начале» и,
следовательно, о художественности Слова о Законе и Благодати,(53) как нет
оснований в полном объеме распространять понятие «художественность» на
древнерусскую литературу в целом. Несмотря на то что в русских
раннесредневековых текстах присутствуют элементы художественности (повторы,
игра слов и т. д.), эстетические качества текста еще не осознаются как
самоценные. Умение писать литературно еще не становится предметом рефлексии.
Разумеется, существовали топосы авторского самоуничижения — прежде всего в
агиографии.(54) Создатель жития говорил, что он груб, что не учился в Афинах и
что святой достоин лучшего описателя, но к размышлениям о качествах
создаваемого им текста прямого отношения это не имело. Внехудожественная в целом природа
средневековых текстов допускала, однако, и свои исключения. Одним из наиболее
ярких является, без сомнения, «Слово о полку Игореве». Будучи созданным на
стыке литературы и фольклора, это произведение в первую очередь принадлежит
все-таки литературе. О том, что, несмотря на обилие народной поэзии, «Слово»
следует считать текстом книжным, литературным, писал Д. С. Лихачев: «Итак,
„Слово” очень близко к народным „плачам” и „славам” (песенным прославлениям).
„Слово” близко к ним и по своей форме, и по своему содержанию, но в целом это,
конечно, не „плач” и не „слава”. Народная поэзия не допускает смешения (выделено мной. — Е. В.)
жанров. Это произведение книжное, но близкое к этим жанрам народной поэзии».(55)
«Слово» стало своего рода
текстом-кентавром, редким для русского Средневековья сращением письменности и
фольклора, и это, на мой взгляд, определило его особую судьбу. Как произведение
книжности «Слово» было записано (фольклор, как известно, бытовал исключительно
в устной форме), как произведение фольклора оно не умерло вместе с той
книжностью, в которую вошло. При переходе к Новому времени устаревание
фольклора было значительно более медленным, чем устаревание литературы. Кроме
того, фольклор имеет особый вход в литературные тексты и без труда усваивается
самыми разными эстетическими системами. Уникальная природа «Слова» дала
ему коды прочтения для самых разных эпох. После открытия и последовавшей за ним
в 1800 г. публикации оно читалось в контексте зарождавшегося романтизма, в
советской действительности находили отзвук патриотические идеи защиты Русской
земли (вплоть до рассуждения о том, что лучше быть убитым, чем плененным). Не
вполне ясно, однако, как «Слово» воспринималось древнерусским читателем. До
некоторой степени ответ на этот вопрос дает основа ная на его тексте
«Задонщина», но — только до некоторой. С точки зрения Нового времени,
«Задонщина» — громоздкий и довольно неуклюжий текст, в котором нет и следа от
моцартовской легкости «Слова». Вмуровывая «Слово» в свой текст по кирпичику,
создатель «Задонщины» проявил себя типичным средневековым книжником — со всеми
плюсами и минусами этого положения. Замечу при этом, что само «Слово», в
отличие от многих книжных произведений Средневековья, — текст не центонный. Оно
едино как по стилю, так и по выраженной в нем авторской позиции (что для
центонных текстов не является вещью само собой разумеющейся). Несмотря на
анонимность «Слова», об авторе мы можем сказать довольно много — о нем говорит
сам текст, авторское начало которого выражено чрезвычайно сильно.
Наконец, «Слово» содержит то,
чего нет в подавляющем большинстве древнерусских текстов, — рассуждения о том,
как именно автор собирается излагать свою «трудную повесть». Эти рассуждения
для него настолько важны, что он открывает ими свое сочинение. Вспоминая своего
предшественника певца Бояна, автор «Слова» противопоставляет ему свою
поэтическую манеру и приходит к выводу о том, что не стоит больше пользоваться
«старыми словесы». Он решает повествовать «по былинамъ сего времени, а не по
замышленiю Бояню».(56) Бояну он дает лестную вроде бы характеристику: «Боянъ бо
вѣщiи, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслiю по древу, сѣрымъ
вълкомъ по земли, сизымъ орломъ под облакы»,(57) но следовать легендарному
певцу определенно не собирается. За противопоставлением себя Бояну стоит если
не идея культурного прогресса, то уж во всяком случае — отказ от свойственного
Средневековью автоматического признания минувшего лучшим. Ввиду всех указанных
особенностей «Слова» оно кажется той точкой, которая способна соединить темы
древней письменности и новейшей литературы, к которой я и перехожу. * * * Говоря о своеобразии литературы
постсоветского периода, являющейся в узком смысле новейшей литературой, чаще
всего упоминают философию и поэтику постмодернизма. Несмотря на то что
современный литературный поток соединяет разные течения, такой акцент имеет
основание. То новое, что пришло в русскую литературу этого периода, связано,
безусловно, с постмодернизмом. Являясь авангардом современной литературы,
постмодернизм в то же время не определяет ее полностью. В разных текстах
постмодернистская поэтика проявляет себя в разной степени, а нередко вообще не
проявляет. Я не ставлю своей задачей рассматривать специфические проблемы
постмодернизма или определять генезис и особенности русского постмодернизма.
Для целей этой статьи достаточно апеллировать к тем общим положениям, которые
не вызывают особых разногласий. Соблюдая определенную симметрию в
рассмотрении древнего и нового материала, начну с проблемы фрагментарности.
Центонный характер современного текста не подразумевает дословного
воспроизведения предшествующих произведений. Эти произведения представлены
обычно аллюзиями, цитатами, пересказом и т. д. Особый тип — стилевое
цитирование, яркие примеры которого мы находим в творчестве Владимира Сорокина.
Вместе с тем, ничто в рамках
постмодернизма не препятствует и текстуальномузаимствованию. Постмодернистский способ мышления в определенном смысле
освобождает текст от обреченности быть собственностью и возвращает его к тому,
что Карл Крумбахер применительно к Средневековью назвал «литературным
коммунизмом».(58) Разумеется, сознание Нового времени не совпадает ни со
средневековым, ни с постмодернистским. В понятийной системе Нового времени
текстуальное заимствование без ссылки на источник может существовать только в
статусе плагиата. В этом отношении показательны недоразумения, сопровождающие
выход произведений одного из ведущих современных прозаиков Михаила Шишкина.
Наиболее острой реакция оказалась на то, что в романе «Венерин волос»
использован фрагмент воспоминаний Веры Пановой, по иронии судьбы названных ею
«Мое и только мое».(59) Примечателен, однако, ответ
Шишкина на обвинения, предъявленные ему критиками: «Я хочу написать идеальный
текст, текст текстов, который будет состоять из отрывков из всего, написанного
когда-либо. Из этих осколков должна быть составлена новая мозаика. И из старых
слов получится принципиально новая книга, совсем о другом, потому что это мой
выбор, моя картина моего мира, которого еще не было и потом никогда не будет. <…>Поставленные
плечом к плечу обрывки стилей создают в этой мозаике взрывную силу такой мощи,
которой у них самих никогда не было. Это приговор самим себе, России, жизни. <…>Одна
из линий в романе „Венерин волос” решает задачу воскрешения. <…>Необходимо
найти в бескрайних залежах мемуарного мусора именно те реалии, которые окружали
ту ростовскую девочку. <…>Я делаю литературу следующего измерения».(60) Часть этого высказывания могла
бы, безусловно, принадлежать древнерусскому книжнику. Стремлением создать
«идеальный текст» диктовались многочисленные редакции древнерусских
произведений. Идеальное состояние текста нередко ассоциировалось с максимальным
использованием всех доступных источников, с полнотой материала (вспомним хотя
бы Великие Минеи Четии),(61) которая в глазах средневекового книжника была
полнотой истины. Другое дело, что если бы средневековый книжник и говорил о
«принципиально новой книге», то эту новизну он понимал бы исключительно как
новую степень приближения к старому, возвращение к первоначальной полноте.
Впрочем, и Шишкин говорит о воскрешении бывшего, что также переводит тему в
ретроспективный план. Как уже было отмечено, прямо или
косвенно цитаты Средневековья в большинстве случаев замыкались на Священном
Писании. В отсутствие подобной замкнутости в Новое время (хотя цитатный
потенциал Священного Писания остался велик и после Средневековья) роль
суперкниги до некоторой степени выполняет литература как целое — по крайней
мере, те тексты, которые способны быть узнанными. Цитата становится своего рода
единицей первой номинации, лексемой, приобретает качества фразеологизма, смысл
которого не равен сумме смыслов составляющих его слов. Подобно тому как
Епифаний Премудрый «плетет словеса» из библейских цитат,(62) современные авторы
сплетают свои тексты из литературных цитат. Ярким примером этого может служить
роман Владимира Березина «Путь и шествие». Фрагментарная структура многих
современных текстов очевидна, даже если речь не идет о заимствованиях из других
произведений. В этих текстах, подобно средневековым, связи между фрагментами
также порой ослаблены — если вообще существуют. Фрагменты некоторых романов
объединяет лишь замысел их создателя — своего рода провиденциальность на уровне
автора. Как и в средневековой письменности, тенденция к дроблению и цитатности
сопровождается в современной литературе не менее мощным движением к
объединению. Ощутимо вырос интерес к сборникам, включающим в себя тексты разных
авторов — прежде всего тематическим (таким, например, как сборники журнала
«Сноб»: «Все о моем отце» (М., 2011), «Все о Еве» (М., 2012), «Красная стрела»
(М., 2013), ставших бестселлерами). В области нон-фикшн ситуация очерчена еще более резко. Востребованность
изданий энциклопедического типа, словно напоминая о популярности древнерусских
«энциклопедических сборников»,(63) достигла невиданных прежде масштабов. Средневековое объединение разных
(порой противоречащих друг другу) версий одних и тех же историй в современной
литературе становится художественным приемом. Речь здесь идет не столько о
противопоставлении возможного/бывшего (например, доставка оконного стекла в романе
Андрея Битова «Пушкинский дом»), сколько о существовании разных версий как
онтологически равноправных — скажем, «параллельные» истории романа «Венерин
Волос» Михаила Шишкина: повторение сюжета сопровождается сменой декораций и
объектов описания. Возможен и другой вариант: в романе Владимира Березина
«Птица Карлсон» герои остаются неизменными, но меняются связанные с ними
(взятые из классической литературы) сюжеты. Центонная структура многих
современных текстов открывает возможности и для разговора о пресловутой «смерти
автора».(64) Несмотря на несвойственную науке образность, «смерть автора»
отражает вполне определенную тенденцию современной литературы, перекликающуюся
с тем, что было в Средневековье.(65) И хотя автор новейшего времени не
устраняется, подобно средневековому, от подписи текстов, ослабление
авторского начала, столь долго
утверждавшегося Новым временем, очевидно.(66) Автор не только становится до
определенной степени редактором прежних текстов, но и осознает это. Тем самым
он с неожиданной, постмодернистской стороны примыкает к традиции, «в рамках
которой русский писатель, как это показал уже Лотман, представал не создателем
текста, а транслятором, передатчиком и носителем высшей истины. Как следствие,
от транслятора и носителя истины требовались отказ от индивидуальности
(анонимность) и строгое соответствие нравственным константам».(67) Дробление/объединение текстов
нередко сопровождается их сокращением/расширением. Возвратом к одновременному
бытованию кратких и полных редакций произведений, характерному для
Средневековья, в настоящее время мы во многом обязаны Интернету. Разнообразные
тексты нередко публикуются в кратком виде, сопровождаясь ссылкой, по которой
можно пройти для подробного ознакомления с материалом. Так, скажем, публикует
свои рецензии авторитетный современный критик Лев Данилкин. Благодаря Интернету текстам была
возвращена открытость, отобранная книгопечатанием Нового времени. Собственно,
само книгопечатание возникает именно тогда, когда текст ощущает потребность в
защите своих границ и структуры. Как отмечает И. П. Смирнов, «Иван Федоров
усматривал ценность внедренного им на Руси книгопечатания в том, что оно
преодолевало диахроническую вариативность текста, означало конец исторического
и начало неисторического, завершенного в себе, бытия текста».(68) Некоторые
произведения (например, «Люди в голом» Андрея Аствацатурова) уже создаются в
блогах, и даже если какой-то их этап фиксируется печатным изданием, ничто не
мешает этим текстам по-летописному продолжать свое развитие в Интернете.(69)
Создалась, как кажется, ситуация, о которой в свое время мечтал Андрей Битов:
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь… То есть не надо, а
можно писать всю жизнь: пиши себе и пиши. Ты кончишься, и она кончится. И чтобы
все это было — правда. Чтобы все — искренне».(70) Слова о правде позволяют перейти
к еще одной важной теме, уже затрагивавшейся выше на древнерусском материале, —
теме фикционального. Главное, что бросается в глаза при взгляде на современную
литературную продукцию, — это ее несомненное тяготение к невымышленному. Прежде
всего речь здесь может идти о литературе, обозначаемой все еще очень размытым
термином нон-фикшн. Помимо того, что
по определению не принадлежит к художественной литературе (от поваренной книги
до учебника по алгебре), существует обширная область того, что находится на
пограничье и способно пересекать границу в ту или иную сторону. Это пограничье ощутимо
расширилось за счет биографической и автобиографической прозы, претендующей на
повышенную степень реальности описываемого. Помимо чисто мемуарной литературы,
имеющей свою нишу в любые времена, в современной словесности популярны тексты,
ставящие знак равенства между автором и повествователем (Андрей Аствацатуров,
Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов и другие). Писатели первого ряда — Павел
Басинский, Дмитрий Быков, Алексей Варламов, Александр Кабаков, Валерий Попов,
Евгений Попов, Захар Прилепин — создают биографические книги, отмеченные
широким читательским интересом, а нередко и литературными премиями. Пору нового
расцвета переживает серия «Жизнь замечательных людей» — об этом говорит не
только количество издаваемого, но и — опять-таки — имена авторов. Возникают,
наконец, успешные литературные проекты, предполагающие максимальное сближение с
реальностью. Один из них — книга Антона Понизовского «Обращение в слух» (СПб.,
2013), составленная из записанных скрытым микрофоном реальных рассказов,
подвергшихся литературной обработке. В современном литературном
обиходе возникает понятие «новый реализм». Несмотря на то что этим термином
обозначают себя по меньшей мере три группы разных писателей,(71) появление его
симптоматично. Существует четко выраженный культурный запрос на «реальность»,
связанный, надо полагать, с определенной девальвацией фикциональности,
культивировавшейся на протяжении всего Нового времени. Собственно говоря,
фикциональность ни в коем случае не была фикцией: по большому счету она тоже
являлась разновидностью реальности. Отражая события, даже если и придуманные
автором, но в то же время реальные (на чем-то ведь основывался авторский опыт),
события, так или иначе, в другом месте и в другое время происходившие,
литература Нового времени также представляла «реальность».(72) Это была
реальность иначе структурированная, разложенная на элементы и иначе собранная,
иными словами — условная реальность, то есть то, что условились считать
реальностью.
Особенность многих нынешних
текстов как раз в том и состоит, что они все более стремятся отражать безусловную реальность. В этом — еще
один пункт их сходства со Средневековьем, нарративные тексты которого без
зазоров укладывались в определение нон-фикшн.
Движение в сторону нон-фикшн и «новый
реализм», с одной стороны, и противопоставленное этому деструктивное начало
постмодернизма — с другой, — суть разные ответы на одну и ту же проблему — девальвацию
«реальности» литературы Нового времени. Другой вопрос — что считалось
«реальностью» в ту или иную эпоху. В Средневековье в эту сферу входили и вещи,
пребывавшие вне эмпирического опыта, — это был особый регистр реальности.
Сопоставляя средневековое сознание с постмодернистским, современный
исследователь говорит о том, что дело не в конфликте «повседневного и
мифического миров, но скорее в проблеме множественности повседневных миров.
Средневековый мир жил с альтернативными реальностями, заключенными в мифах,
легендах и чудесах (коллизия повседневного и метафизического миров).
Постмодернистский мир также связан с альтернативными реальностями, особенно
теми, которые конструируются в киберпространстве и медиагенерированных мирах.
Общим для средневекового и постмодернистского здесь является отсутствие
эпистемологической доминанты с ее абсолютной верой в эмпирический метод,
способный производить последовательный и единообразный „реальный” мир.
Средневековое располагается до эпистемологической доминанты, а
постмодернистское — после нее».(73) Слово Нового времени соотносится
с «реальностью», в то время как слово постмодернизма, подобно слову
Средневековья, соотносится прежде всего с «реальностью» предшествующих текстов.
Это тоже — реальность, поскольку читательский опыт — это тоже жизненный опыт.
Он присутствует и у человека Нового времени, но только постмодернизм открыто
(часто — иронически) признает первостепенную важность этого опыта. «Реальность»
художественного текста постмодернизм возводит в абсолют, доводя ее до абсурда и
тем самым разрушая. То деструктивное начало
постмодернизма, о котором шла речь выше, очевидным образом было свойственно
лишь его начальной фазе. Недаром в недрах этого течения появилась «новая
искренность» — «постпостмодернистская» эстетика, которая, по выражению М. Н.
Эпштейна, «определяется не искренностью автора и не цитатностью стиля, но
именно взаимодействием того и другого, с ускользающей гранью их различия, так
что и вполне искреннее высказывание воспринимается как тонкая цитатная
подделка, а расхожая цитата звучит как пронзительное лирическое признание».(74)
От разоблачения и разрушения реальности Нового времени постмодернизм переходит
к созиданию новой реальности. Может быть, именно в этой точке постмодернизм
переходит во что-то другое, что впоследствии найдет себе отдельное имя.
Неслучайно конец эпохи постмодернизма порой видят в разрушении нью-йоркских
башен- близнецов 11 сентября 2001 года, когда на смену симулякрам стала
приходить реальность.(75) Разрушая условную реальность
литературы Нового времени, постмодернизм взрывает вымысел как таковой, сводя
все дело к реальности в непосредственном ощущении. Художественному миру не
хватает достоверности, и он наполняет себя реальностью или симулирует ее. Таким
образом вопрос «реальности» описываемого неизбежно приводит нас к проблеме
художественности. Точнее, к признанию того, что художественность в привычном
смысле — том смысле, который развивало Новое время, — начинает исчезать. В
настоящее время можно говорить если не о смерти художественности, то о ее
размывании. Литература некоторым образом стремится к дохудожественному
состоянию, которое повторится на новом этапе — с памятью о преодоленной
художественности. После размывания художественности
Нового времени будет создаваться новая художественность и новая литература.
Если, вслед за Ю. М. Лотманом, понимать художественность как информацию,
полученную из несистемного материала (76) (т. е. то, что в произведении остается за
вычетом системной информации), то можно констатировать, что к концу XX века
сфера внесистемного была окончательно перегружена. Слова оказались обременены
надстройками коннотаций — настолько громоздкими, что первоначальный смысл слова
был под ними безвозвратно погребен. Собственно говоря, постмодернизм тогда и
возник, когда пользоваться словами стало почти невозможно. Эта гроза стала
очистительной. Сказанное не означает, что
«пересозданию» в одночасье подвергнется вся литература — думать так нет
оснований. Сходство современного этапа со Средневековьем состоит не столько в
том, что слова снова «ничьи» и доступны для использования, сколько в том, что
литература становится по- средневековому неоднородной и в определенном смысле
без-граничной. Существует и, видимо, долгое время будет существовать обширный
пласт консервативной литературы, стилистически слабо окрашенной, — она
устаревает гораздо медленнее авангарда. Значительная часть новейшей литературы,
как и в Средневековье, становится литературой реального факта — или факта,
который мыслится реальным. Эта сфера расширяется за счет нон-фикшн. В сущности, граница фикшни нон-фикшн, литературы и
не-литературы, становится довольно зыбкой и играет все меньшую роль. Размывание художественности идет
не только по линии стирания границ между фикшни нон-фикшн, поскольку
фикциональность сама по себе не определяет художественности, а, скорее,
сопутствует ей. По-средневековому стирается также грань между профессиональным
и непрофессиональным текстом, между элитарным и массовым. Особую роль в
появлении новых текстов стал играть Интернет. К созданию текстов подключились
те слои населения, которые прежде были обречены на молчание. Можно спорить о
том, благом ли стало то, что они обрели голос, но то, что голосов стало больше,
не вызывает сомнений. Как и в Средневековье, мир на
современном этапе становится текстом, хотя в каждом из случаев это разные
тексты. Средневековый мир читался и толковался как состоявшийся текст — текст,
написанный Богом, исключающий непродуманное и случайное. Ключом к этому тексту
было Священное Писание, которое помогало увидеть и истолковать знаки, щедро
рассыпанные в повседневности. Для постмодерниста, того, кто завершает эпоху
Нового времени, мир — это набор цитат, литература, отразившая его целиком и
вразбивку. Но на этом этапе рождается и восприятие мира как потенциального текста, который творится
вместе с бытием. Такое восприятие присуще, например, блогеру, описывающему
минута за минутой прошедший день. Еще длящееся событие заранее переживается им
как текст, который должен быть записан. Этот человек по-журденовски открывает
для себя, что всю жизнь говорил прозой, и создаваемые им тексты действительно
меняют литературный мир. Несмотря на то что многие функции
литературы (например, развлекательную) взяли на себя кино, телевидение,
компьютерные игры и т. д., общая текстовая масса увеличилась. В этой магме
текстов то, что мы привыкли считать собственно художественной литературой,
занимает сейчас относительно скромное место. Да и эта литература зачастую
стесняется своей литературности. Портрет, пейзаж и прочие «признаки
художественности», казавшиеся неотъемлемым атрибутом литературы Нового времени,
в новейших текстах не являются чем-то само собой разумеющимся. Подобно средневековой письменности,
в современной литературе нехудожественные по своему происхождению фрагменты
соседствует с художественными — даже в пределах одного текста. Разумеется,
«нехудожественные» фрагменты в современных текстах обретают художественность
контекстуально, но в самом смешении типов текста и стилей без труда угадывается
Средневековье. Появление новых текстов (а
значит, и новой поэтики) в эпоху Нового времени в той или иной степени означало
отрицание прежних произведений и прежней поэтики. Бытование этой литературы
зиждилось на идее эстетического прогресса, предполагающего смену одного стиля
другим. В Средневековье, не знавшем идеи прогресса — ни в общественной жизни,
ни в эстетике, — старое и новое не противопоставлены, и новые тексты
инкорпорируют старые. Такого же рода симбиоз мы видим в литературе
постмодернизма, не отторгающей текстов предшественников, но делающей их частью
себя. Подобно тому, как в Средневековье это позволяла делать внехудожественная
природа большинства текстов, процесс инкорпорирования в нынешних условиях также
сопровождает преодоление художественности литературой. Прогрессистский тип мышления,
господствовавший все Новое время, не кажется теперь единственно возможным.
«Самый постмодернистский текст, — подчеркивает И. П. Смирнов, — стремится к
неоригинальности, к компрометированию культа нового, свойственного авангарду, о
чем пишут многие исследователи нашей современности».(77) О ретроспективной
направленности постмодернизма говорит М. Н. Эпштейн: «Постмодернизм признает
себя неустранимо вторичным, производным, симулативным образованием, а
следовательно, получает законное право наследовать всему, замкнуть исторический
круг. Новое неминуемо должно устареть, но старое всегда остается нестареющим.
Постмодернизм рождается вторичным, мертвенным, но именно поэтому он уже никогда
не сможет умереть. Проигрывая в новизне, постмодернизм оказывается в выигрыше
как последняя, несменяемая фаза культуры. В этом и состоит особенность его
стратегии по сравнению с авангардом и соцреализмом, которые торопились заявить
о себе как о первом слове — и заведомо лишили себя возможности стать последним
словом. Если коммунизм мыслил себя лишь как завершение всей предыстории
человечества, то постмодернизм провозглашает уже конец самой истории».(78) Ощущение конца истории — не
обязательно в эсхатологическом смысле, а во вполне позитивном либеральном
ключе, как у Ф. Фукуямы, — несовместимо с прогрессистским мировосприятием
Нового времени. Это то, что приходит с постмодерном как новой культурной эпохой
и сближает его со Средневековьем. Всякое время мыслится Средневековьем как
потенциально последнее. Даже если оставить за скобками периодическое ожидание
конца света, в Средневековье не было принято говорить о будущем, и уж во всяком
случае — о светлом будущем. Одно из редких оптимистических высказываний
представляет в конечном счете эсхатологический оптимизм. В заключительной части
Русского хронографа о Русской земле сказано, что она «Божиею милостию и
молитвами пречистыа Богородица и всѣхъ святыхъ чюдотворець растеть и младѣеть и
возвышается, ейже, Христе милостивый, дажь расти и мла дѣти и разширятися и до
скончаниа вѣка».(79) Любопытно, что текст этот восходит к посвящению императору
Михаилу Комнину, читающемуся в Хронике Константина Манассии, — памятнике,
созданном, когда «скончание вѣка» Византии в исторической перспективе уже
просматривалось.(80) Свойственное современной
культуре, выражаясь в духе Дж. Барнса, предчувствие
конца имеет свои основания. Применительно к нашей теме можно предположить,
что период литературы Нового времени — модерна — действительно заканчивается.
Судя по всему, культуру ожидает не просто очередная смена типа
художественности, как это было при смене великих стилей Нового времени. Вполне
вероятно, что мы действительно находимся в начальной фазе новой формации —
постмодерна.(81) Некоторые из перечисленных черт
сходства средневековых текстов с текстами новейшими можно в той или иной
степени найти и в литературе Нового времени. Но, как кажется, дело здесь в
степени явленности этих черт, поскольку именно степень говорит о значимости и
зрелости явления. Некоторые черты сходства могут показаться случайными. Взятые
по отдельности, они как будто и в самом деле случайны, но в своей совокупности
заставляют еще раз задуматься, не кроется ли за этим закономерность. Средневековье сменилось Новым
временем, и письменность сменилась литературой. Прямое наследование
предполагает отталкивание, при- чем наследник обычно развивает то, чего нет в
предшественнике. Новое время в литературе развивало прежде всего индивидуальное
начало, оно стало временем необходимого разграничения и обособления — текстов,
авторов, читателей. Тексты приобрели завершенность, авторы — индивидуальный
стиль, а читатели — соответствующие их склонностям сегменты книжной продукции.
Нынешний этап развития культуры доказывает, однако, что и это положение вещей
не окончательно. Я бы не отважился сказать, что маятник до предела качнулся в
обратную сторону и от литературы мы сейчас в полной мере возвращаемся к
письменности. Речь, скорее, может идти о гегелевской триаде, в которой эпоха
постмодерна является синтезом Средневековья и Нового времени. Наступает,
возможно, не «новое Средневековье» (термин Н. А. Бердяева),(82) но эпоха, очень
Средневековью созвучная, рифмующаяся с ним. Общим местом являются утверждения
о демократичности постмодернизма, о свойственной ему разрушительной (и
очистительной) силе, сминающей авторитеты и иерархии, перемалывающей литературные
произведения разного времени и разной ценности в единую текстовую массу.
Исторический взгляд на эту массу показывает, что демократизм не является ее
неотъемлемой чертой. Как раз наоборот. Созвучная постмодернизму поэтика
Средневековья являлась проводником авторитарного (в понимании М. М. Бахтина)
дискурса. Фрагментированный гипертекст, в котором все части потенциально
соединимы друг с другом, для авторитарного дискурса предоставляет
неограниченные возможности. Чем больше в этом тексте раздроблено индивидуальное,
тем сильнее проступает всеобщее. Что будет этим всеобщим — остается только
гадать. Авторитарный дискурс может быть построен не только на религиозном, но и
на национальном, и даже на либеральном материале. Каким бы ни был предмет
авторитарного дискурса, можно полагать, что форма для его появления уже
существует. В отличие от раннего
постмодернизма, эта форма более не одиозна. По справедливому замечанию М. Н.
Липовецкого, эстетика постмодернизма «уже потеряла скандальную новизну и
достаточно глубоко вошла в кровь культуры».(83) Разрушив традицию,
постмодернизм сам становится традиционным, превращается в тот язык выражения,
на котором говоришь, не очень задумываясь о его, языка, собственных качествах.
Вполне возможно, мы уже идем по средневековому пути и являемся свидетелями
нового создания литературы. Примечания 1 Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993. С.
35–37. 2 См.: Frey H.-J.
Der unendliche Text. Frankfurt/M, 1990. S. 20–21. 3 См., например: Sturges R.
S. Medieval Interpretation: Models of Reading in Literary Narrative, 1100–1500.Carbondale;
Edwardsville, 1991. P. 3–5. 4 Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней
Руси (на мате- риале хронографического и палейного повествования XI–XV веков).
2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2008. С. 71–72. (Библиотека Пушкинского Дома). 5 Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 91. 6 См.: Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., статьи и
коммент. Д. С. Лихачева; Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и
доп. / Под- гот. М. Б. Свердлов. СПб., 1996. С. 64. 7 См.: Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе
Древней Руси. С. 52–53. 8 Панченко О. В. Поэтика уподоблений (к вопросу о
«типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии)
// Труды Отдела древнерусской литературы (далее — ТОДРЛ). СПб.,
2003. Т.
54. С.
491– 534. 9 См., например: Čyževśkyj
D. Zur Stilistik der altrussischen Literatur: Topik // Festschrift für Max
Vasmer zum 70. Geburtstag
am 28. Februar 1956. Wiesbaden, 1956. S. 105–112; Буланин Д. М. Античные традиции
в древнерусской литературе XI–XVI вв. München, 1991. С. 217–263. (Slavistische
Beiträge; Bd. 278); Руди Т. Р. 1) Топика русских житий (вопросы типологии) //
Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика / Под ред. Т. Р. Руди и
С. А. Семячко (отв. ред.). СПб., 2005. С. 59–101; 2) О композиции и топике
житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 431–500; 3) О топике житий
юродивых // ТОДРЛ. СПб., 2007. Т. 58. С. 443–484; и др. 10 См.: Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе
Древней Руси. С. 74–76. 11 Лихачев Д. С. Еллинский летописец второго вида и
правительственные круги Москвы конца XV в. // ТОДРЛ. М.; Л., 1948. Т. 6. С.
100. 12 См.: Dijk T. A.
van. Textwissenschaft: Eine interdisciplinäre Einführung. Tübingen, 1980. S. 32–55. 13 См. об этом: Семячко С. А. История текста «Предания
старческого новона- чальному иноку» и ранняя история сборника «Старчество» //
Книжные цент- ры Древней Руси: Кирилло-Белозерский монастырь / Отв. ред. С. А.
Семячко. СПб., 2008. С. 25–71. 14 Там же автором приводятся аналогичные заключения Э.
Курциуса и Э. Фа- раля. См.: Ryding W. W. Structure in Medieval
Narrative. Hague, Paris, 1971. P. 62–63. 15 Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней
Руси. С. 194. 16 Водолазкин Е. Г. Краткая Хронографическая Палея (текст).
Вып. 1 // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 907–908. 17 Семячко С. А. Патерик, Старчество и «Старчество» // ТОДРЛ.
СПб., 2010. Т.
61. С.
489–511. 18 См. подробнее: Marti R.
Handschrift — Text — Textgruppe — Literatur: Untersuchungen zur inneren
Gliederung der frühen Literatur aus dem ostslavischen Sprachbereich in den
Handschriften des 11. bis 14. Jahrhunderts / Osteuropa-Institut an der Freien
Universität Berlin: Slavistische Veröff entlichungen. Berlin, 1989. Bd. 68. S. 375–379. 19 См.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.,
1979. С. 55–62. 20 См.: Самодурова З. Г. Малые византийские хроники и их
культурно-историческое значение: Автореферат дисс. канд. ист. наук. М., 1968. О
со- кращении и распространении на летописном материале см.: Schweier U.
Paradigmatische Aspekte der Textstruktur: Textlinguistische Untersuchungen zu
der intra- und der intertextuellen funktionalen Belastung von Strukturelementen
der frühen ostslavischen Chroniken. München, 1995. S. 106–112. 21 Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней
Руси. С. 267–269. 22 Если эта связь и прослеживается в средневековых
сочинениях, то лежит она в сфере религиозно-этической. Даже отношения между
людьми рассматривались в Средневековье через призму отношений с Богом. 23 См. об этом: Еремин И. П. Литература Древней Руси: (Этюды
и характери- стики). М.; Л., 1966. С. 72–85;
Brandt W. J. The Shape of Medieval History: Studies in Modes of Perception. New Haven; London, 1966. P. 65–76,
169–171; Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней Руси. С.
61–67. 24 См.: Летописец Еллинский и Римский. Т. 1: Текст / Осн.
список подгот. О. В. Твороговым и С. А. Давыдовой; вступ. статья, археографический
обзор и критический аппарат издания подгот. О. В. Твороговым. СПб., 1999. С. 3.
25 Водолазкин Е. Г. Новое о палеях (некоторые итоги и
перспективы изучения палейных текстов) // Русская литература. 2007.
№ 1. С.
3–23. 26 Colwell E.
C. Studies in Methodology in Textual Critisism of the New Testament. Leiden, 1969. P. 69. 27 См.: Водолазкин Е. Г. Особенности текстологии ранних
славянских переводов // Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. Наум
Охридски. София, 1993. С. 242–249. 28 См.: Истоки русской беллетристики / Отв. ред. Я. С. Лурье. Л., 1970. С. 192. 29 См.: Böhn A.
Das Formzitat. Berlin,
2001. S. 33. 30 Пиккио Р. Функция библейских тематических ключей в
литературном коде православного славянства // Пиккио Р. Slavia orthodoxa:
Литература и язык / Отв. ред. Н. Н. Запольская, В. В. Калугин. М., 2003. С.
431–473. 31 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
С. 69. 32 См.: Успенский Б. А. Борис и Глеб: восприятие истории в
Древней Руси. М., 2000. 33 Ljubarskij
Ja. George the Monk as a Short-Story Writer // Jahrbuch der österreichischen
Byzantinistik. Wien,
1994. Bd. 44. S. 255–264. 34 На летописном материале об этом явлении писал И. П.
Еремин: «Когда эпизоды (фрагменты) деятельности героя получали у летописца
неодинаковую оценку, одни — положительную, другие — отрицательную, «расщепление»
героя принимало под пером летописца в особенности бурный характер: герой и его
двойник попадали в положение, исключавшее для них всякую возможность «мирного»
сосуществования в пределах своего повествовательного ряда, так как основного
условия такого сосуществования — единства оценки всех элементов этого ряда —
уже не было; герой и его двойник стали — как всегда у летописца, выступая
каждый в свое время, поочередно, — взаимоотрицать один другого. Глубокая
внутренняя противоречивость, которую в результате такого «расщепления» героя
неизбежно приобретал рассказ летописца, его никогда не смущала» (Еремин И. П.
Литература Древ- ней Руси: (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966. С. 86). 35 См.: Виноградов В. В. О задачах стилистики: Наблюдения над
стилем Жития протопопа Аввакума // Русская речь / Под ред. Л. В. Щербы. Пг.,
1923. Т. 1. С. 211–214; Успенский Б. А. Поэтика композиции: Структура
художественного текста и типология композиционной формы. М., 1970. С. 62–63. 36 Полное собрание русских летописей. Пг., 1915. Т. 4, ч. 1.
Вып. 1. С. 320. 37 Святитель Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления
/ Под ред. Г. М. Прохорова. СПб., 1995. С. 150. 38 См.: Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской
письменности XI–XVI веков: Каталог гомилий / Сост. Е. Э. Гранстрем, О. В.
Творогов, А. Валевичюс; Отв. ред. О. В. Творогов. СПб., 1998. 39 По справедливому замечанию Роланда Марти, «под текстом в
древнерусской литературе подразумевается, как правило, „абстракция”, поскольку
текст не существует конкретно в своей первоначальной форме. Представлен он
экземплярами текста, которые вследствие ошибок переписчика и других изменений
отличаются от текста». См.: Marti R. Gattung Florilegien //
Gattungsprobleme der älteren slavischen Literaturen / Hrsg. v. W.-H. Schmidt. Berlin, 1984. S. 121. 40 Замечу, что даже преклонение перед «вечными» текстами
прошлого, эстетические качества которых признаются непревзойденными, никоим об-
разом не предусматривает рекомендаций писать подобным образом сегодня. 41 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1976. С.
155. 42 Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней
Руси. С. 140–153. 43 Там же. С. 269–293. 44 Там же. С. 48. 45 Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие
Древней Руси и современность. Л., 1971. С. 58. 46 Истоки русской беллетристики. С. 163. 47 См.: Палея Толковая по списку, сделанному в г. Коломне в
1406 г. М., 1892. Стб. 360. 48 Физиолог / Изд. подгот. Е. И. Ванеева. СПб., 1996. С. 12. 49 См.: Водолазкин Е. Г. К вопросу о знаке и значении в
древнерусской письменности // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 59:
Festschrift für I. P. Smirnov zum 65. Geburtstag. 2007. S. 407–425. 50 См., например: Landwehr J.
Fiktion oder Nichtfi ktion // Literaturwissenschaft: Ein Grundkurs / Hg. v. H.
Brackert, J. Stückrath. Reinbek bei Hamburg, 1992. S. 499– 500. 51 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
С. 95. 52 Там же. С. 89. 53 В данном случае я позволил себе разделить сомнения К. Д.
Зееманна относительно игровой природы «Слова» (Зееманн К. Д. Приемы
аллегорической экзегезы в литературе Киевской Руси // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48.
С. 117–118). В сопоставлениях Илариона нет метафоричности, это, скорее,
каталогизация всей суммы значений, в известном смысле то их «неподвижное
сосуществование», которое отрицает Ю. М. Лотман. Если продолжить образ
«мерцания» значений и попытаться представить себе этот процесс в виде
светофора, то в случае Илариона — как бы странно это ни выглядело — горели бы
все три света одновременно. Иларион не просто следует герменевтической традиции,
позволяющей выявлять весь спектр значений тех или иных явлений. Есть все
основания думать, что он, в согласии со средневековым пониманием авторства,
составлял свою проповедь на основании имевшихся у него источников. В частности,
греческие параллели к противопоставлениям Илариона были указаны Людольфом
Мюллером. Речь идет о гомилиях, созданных между 385 и 410 гг. неким Астериусом
(Müller L. Eine weitere griechische Parallele zu Ilarions „Slovo o zakone i
blagodati” // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48. С. 100–104). См. об этом: Водолазкин Е.
Г. К вопросу о знаке и значении в древнерусской письменности. С. 422. 54 См. об этом, например: Буланин Д. М. 1) Некоторые
трудности изучения биографии древнерусских писателей // Русская литература.
1980. № 3. С. 137– 142; 2) Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI
вв. С. 217–248. 55 Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его
времени. Л., 1978. С. 23. 56 Здесь и далее «Слово» цитируется по изд.: Слово о полку
Игореве. 3-е изд. Л., 1985. С. 22–35. (Библиотека поэта. Большая серия). 57 «Не решу, — проницательно заметил об этой характеристике
Пушкин, — упрекает ли здесь Бояна или хвалит» (Пушкин А. С. «Песнь о полку
Игореве» // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М.; Л., 1949. Т.
7. С.
506). 58 Krumbacher
K. Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des
Oströmischen Reiches (527–1453). 2. Aufl . München, 1897. S. 320. 59 См.: Танков А. Шествие переперщиков // Литературная
газета. 2006. Вып. 11–12. Текстуальной связи романа «Письмовник» с книгой Д.
Янчевецко- го «У стен недвижного Китая» касается в своей рецензии М. Ганин
(Openspace. 2010. 20 сентября). 60 Цит. по: Пирогов Л. Приговор себе, России и жизни: Об
одном литератур- ном скандале // Независимая газета–Ex Libris. 2006. 6 апреля. 61 См.: Дробленкова Н. Ф. Великие Минеи Четии // Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2, ч. 1. С. 126. 62 Так, в созданном им «Слове о житии и учении» Стефана
Пермского, по наблюдениям исследователей, насчитывается 340 библейских цитат,
158 из которых — из Псалтири. См. об этом: Вигзелл Ф. Цитаты из книг Священного
Писания в сочинениях Епифания Премудрого // ТОДРЛ. Л., 1971. Т. 26. С. 232–
243; Прохоров Г. М. Епифаний Премудрый // Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. 2, ч. 1. С. 212. 63 См. об этом: Дмитриева Р. П. Четьи сборники XV в. как жанр
// ТОДРЛ. Л., 1972. Т. 27. С. 150–180; Каган М. Д., Понырко Н. В.,
Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Л.,
1980. Т. 35. С. 3–300; Энциклопедия русского игумена XIV–XV вв.: Сборник
преподобного Кирилла Белозерского / Отв. ред. Г. М. Прохоров. СПб., 2003; и др.
64 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С.
384–391. 65 Следует, правда, отметить, что порой «смерть автора» вызывает
возражения даже в медиевистической среде. См.: Schnell R.
«Autor» und «Werk» im deutschen Mittelalter: Forschungskritik und
Forschungsperspektiven // WolframStudien. Bd. 15 / Hrsg. v. J. Heinzle, L. P.
Johnson, G. Vollmann-Pfofe. Berlin, 1988. S. 12–73. 66 Я оставляю без рассмотрения проблему «литературных
негров», пишущих вместо отдельных авторов, или группы создателей «межавторских
серий», скрывающихся за общим (вымышленным) «авторским» именем (см. об этом
подробнее: Чупринин С. Жизнь по понятиям: Русская литература сегодня. М., 2007.
С. 26–29), хотя даже в русле избранной темы этот феномен может представлять
интерес: с определенными оговорками и в этом случае можно констатировать
«смерть автора». 67 Берг М. Литературократия: Проблема присвоения и
перераспределения власти в литературе. М., 2000. С. 310. 68 Смирнов И. П. О древне русской культуре, русской
национальной специ- фике и логике истории. Wien, 1991. С. 139. (Wiener
slawistischer Almanach; Sonderband 28). 69 Принцип открытости текста в современной словесности
осуществляется не только в Интернете и — не обязательно путем вмешательства в
текст или его непосредственного продолжения. Речь здесь может идти также о книжных
сериях, сиквелах, приквелах и т. п. Разумеется, подобного рода вещи создавались
и в эпоху Нового времени, но никогда прежде их производство не достигало такого
размаха. 70 Битов А. Жизнь в ветреную погоду. Л., 1991. С. 6. 71 Чупринин С. Жизнь по понятиям: Русская литература сегодня.
С. 363–365. 72 Ср.: Iser W.
Akte des Fingierens oder Was ist das Fiktive im fi ktionalen Text? //
Funktionen des Fiktiven / Hrsg. v. D. Henrich und W. Iser. München, 1983. S.
125. 73 Smethurst
P. The Journey from Modern to Postmodern in the Travels of Sir John Mandeville
and Marco Polo’s Divisament dou Monde // Postmodern Medievalisms / Ed. by R.
Utz and J. G. Swan. Cambridge, 2005. P. 173. (Studies in Medievalism. 2004.
Vol. 13). 74 Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. М., 2005.
С. 438. 75 Там же. С. 457–461. 76 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. С. 75–78. 77 Смирнов И. П. Психодиахронологика: Психоистория русской
литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. С. 330. 78 Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. М., 2005.
С. 89–90. 79 Полное собрание русских летописей. СПб., 1911. Т. 22, ч.
1. С. 439–440. 80 См.: Мещерский Н. А. Источники и состав древней
славяно-русской пере- водной письменности XI–XV веков. Л., 1978. С. 91–93. 81 См.: Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. С.
472–476. 82. Говоря о том, что термин «новое Средневековье» является
образным выражением, Бердяев в то же время дает емкую характеристику «старого
Средневековья» (в данном случае западного): «Наконец, пора перестать говорить о
„тьме Средневековья” и противопоставлять ей свет новой истории. Эти пошлые
суждения не стоят на уровне современных исторических знаний. Нет надобности
идеализировать Средние века, как это делали романтики. Мы отлично знаем все
отрицательные и темные стороны Средневековья — варварство, грубость,
жестокость, насильничество, рабство, невежество в области положительных знаний
о природе и истории, религиозный террор, связанный с ужасом адских мук. Но
знаем также, что Средние века были эпохой религиозной по преимуществу, были
охвачены тоской по небу, которая делала народы одержимыми священным безумием,
что вся культура Средневековья направлена на трансцендентное и потустороннее,
что в эти века было великое напряжение мысли в схоластике и мистике для решения
последних вопросов бытия, равного которому не знает история Нового времени, что
Средние века не растрачивали своей энергии вовне, а концентрировали ее внутри и
выковывали личность в образе монаха и рыцаря, что в это варварское время созрел
культ прекрасной дамы и трубадуры пели свои песни. Дай Бог, чтобы эти черты
перешли новому Средневековью» (Бердяев Н. Новое Средневековье: Размышление о
судьбе России и Европы. М., 1991. С. 23–24). 83 Липовецкий М. Н. Паралогии: Трансформации (пост)модернистского
дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов. М., 2008. С. 457
| ||||||
24.07.2016 г. | ||||||
Наверх | ||||||



 Культуролог в ЖЖ
Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК
Культуролог в ВК