Внутри языка |
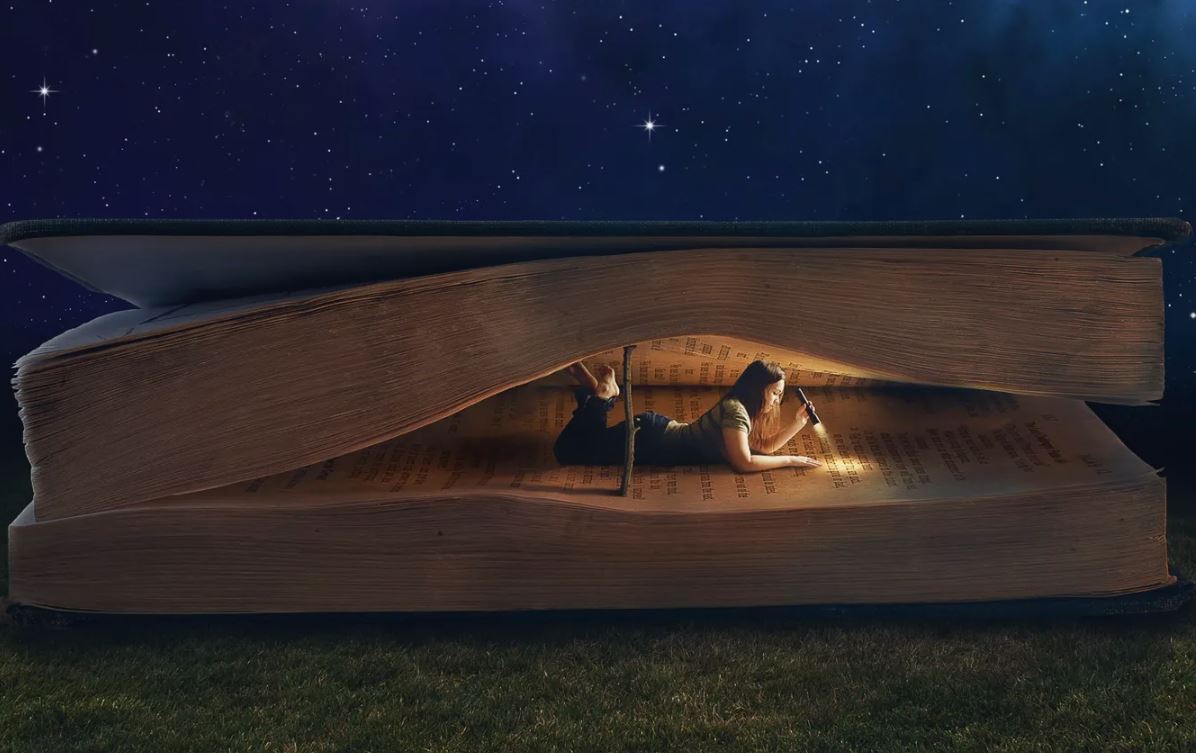 Язык даёт
нам подсказки. Апостол Павел как-то заметил: «Сколько, например, различных
слов в мире, и ни одного из них нет без значения». Мы составляем из слов
фразы и понимаем друг друга. Но иной раз имеет смысл не спешить сослагать одно
слово с другими. Можно взять отдельное слово и попытаться присмотреться к его
значению внимательнее. Возможно, это поможет нам уточнить картину мира. Будущее.
Будущее в языке — не просто грамматическое
время; это область, где язык конфликтует с реальностью. В реальности будущего
нет, оно ещё не наступило, а язык оперирует им как некой данностью. «Я пойду
туда-то и буду там то-то делать» — построив подобную фразу, я создаю повод для
реакции, ровно такой же, каким является и то, что уже произошло, и то, что
происходит сейчас. Суть будущего, однако, вовсе не в
провокации. Будущее вызревает в настоящем. Древесина гниёт, и рано или поздно
деревянный настил проломится. Этого следует ожидать, надо быть готовым к
будущему событию, чтобы неожиданно не провалиться и не сломать ногу. Я иду к
сапожнику и сдаю ботинки в ремонт. Лишившись ботинок сейчас, я получу их в
будущем обратно, уже в лучшем качестве. У нас есть все основания для того,
чтобы ежесекундно апеллировать к будущему, и язык создаёт средства для
выражения этой отсылки. Но, получив эти средства в своё
распоряжение, мы злоупотребляем ими. Язык не ставит нам никаких границ в
формировании суждений о будущем. Когда я говорю «завтра будет…», я могу
подставить дальше любые слова, и это не нарушит грамматических правил. Внутри
языка мы можем создавать любое будущее по своему желанию. И так активируется
лингвистический парадокс. Мы называем будущим наши ожидания, сумму наших
намерений, тогда как будущее — лишь то, что будет. Законы, на которых строится мир, включают
в себя причинно-следственные связи. Имея перед собой причину, мы можем и даже
должны учитывать её следствия. Но нам мало зайти в будущее по щиколотку, мы
хотим забраться поглубже. Поэтому мы пытаемся представить себе те причины,
которых ещё нет, и вывести следствия из них. Нам думается, что, допустив
правильные причины, можно запрограммировать получение нужных следствий.
Кажется, что это не сложнее, чем нажимать на клавиши. Компьютер ведь делает то,
что мы от него хотим; почему бы и будущему в целом не выстраиваться по нашему
плану? Мы вожделеем управлять будущим. Но будущее — лишь то, что будет. Оно
включает не только результаты наших усилий, доля которых весьма мала. Наша
власть над будущим практически не выходит за границы языка. Реальное будущее не
поддаётся контролю. Вражда.
Вражда — антоним дружбы. Слово, предельно
противоположное по значению. Но что это значит? Антонимичность, на самом деле, весьма
интересное отношение. Для того чтобы мы считали противоположность смысла, слова
должны попадать в один семантический ряд, занимая в нём крайние места, как,
например, «горячий» и «холодный» в ряду «горячий - тёплый - нехолодный -
холодный». А в одном ряду могут стоять лишь те слова, что обладают рядом общих
признаков — как грамматических, так и семантических. Антонимы «горячий» и
«холодный» объединяет не только то, что оба эти слова — прилагательные, но и
то, что они описывают один и тот же параметр — температуру. При этом стоит иметь в виду, что
исторически температура определялась не градусником, а тактильно. Чтобы
определить, холодная печь или уже прогрелась, надо было её потрогать. Чтобы не
обжечься чересчур горячим питьём, его осторожно пробуют губами. То есть
итоговый вывод может быть различным, но действия, предшествующие ему,
одинаковы. Этот момент вшит в любую пару антонимов.
Антонимы должны обладать структурным сходством, которое следует понимать шире, чем
грамматическое. Это сходство включает в себя и определённое место в картине
мира (антонимы вполне могут заменять друг друга с сохранением окружающих их
слов, ну и с реверсом смысла, конечно: между ними была дружба, а стала вражда;
субъекты остались прежними, поменялось лишь отношение), и некую параллельность
возникновения качества или состояния, сродство в реализации противоположностей. Дружбу надо поддерживать. Друг, с которым
контакт был утрачен, превращается в элемент прошлого — это друг детства, друг
юности и т.д. Приятно вспомнить о прежней дружбе, но можно считать, что в
настоящем этого друга уже нет. Другом остаётся лишь тот, с кем соблюдаются
определённые ритуалы дружбы. Аналогичным образом мы поддерживаем и
вражду. Если её оставить без внимания, она затухнет. Поэтому время от времени
мы её подкармливаем, напоминая себе о её существовании. Тут нет никакого тайного знания, но каждый
раз это становится довольно неприятным личным открытием. Я не просто имею
какого-то врага, я постоянно подчеркиваю себе его враждебность, интерпретируя
его действия как направленные против меня. Обычно думаешь, что враг существует
объективно, что вражда есть естественное следствие из внутренней организации
врага. А на поверку выходит, что я сам участвую в воспроизводстве вражды и
представляю собой одну из её причин. А может быть и так, что причина — только во мне. Город.
Город — буквально огороженное место.
Ограда — простейшая, но очень эффективная система защиты. В городе жить более
безопасно. Живущий вне ограды больше рискует. Если будет набег, нажитое им
имущество разграбят, а дом могут спалить. У горожан есть шанс отсидеться за
стенами. Тот, кто живёт вне стен, более крут. У
него жизнь тяжелее. Выжить в более опасных условиях непросто. Тут нужен
характер. Горожанин может быть изнеженным, житель открытых пространств — нет. С другой стороны, жить под постоянной
угрозой — безрассудно. В какой-то степени это синоним слову «глупо».
Здравомыслие должно побуждать людей переселяться внутрь города. Однако количество
мест для заселения в городе всегда ограничено. Среди желающих стать горожанами
всегда происходил естественный отбор. Понятно, что город открывал свои ворота
богатым. А из тех, кто победней, в город внедрялись самые ушлые (хитрые и
беспринципные). Эта оппозиция пережила выход города за
свои стены, прекращение набегов и в какой-то степени сохраняется до сих пор.
Житель открытых пространств менее прихотлив, физически сильнее и вообще круче,
ибо он должен выживать там, где это сложно. Перемести такого в «городские
джунгли», и вероятность, что он выживет — высока. Собственно, за счёт таких
переселенцев и росло население городов. А перемести урождённого горожанина в
сельскую местность, оторви его полностью от города — скорее всего будет
трагедия. В то же время средний горожанин житейски
хитрее, ему доступно больше нюансов отношений, поэтому (если дело не доходит до
выживания) он выигрывает у жителя села: в его распоряжении больше самых разных
ресурсов, в том числе знаний на общие темы, наконец, он свободнее в защите
собственных интересов (ему проще считать других разменной монетой). Костяк нации из горожан получается не
очень крепким. В условиях стресса горожане не выдерживают нагрузки. Но
урбанизация зашла так далеко, что сельское население проигрывает численно, да и
то число, которое мы видим в статистике, образуется в основном за счёт людей
почтенного возраста. Город вобрал себя всех, кто способен к мобильности (то
есть обладает активностью), и переработал их в формат горожан. В результате
нация ослабла физически и этически. Тотальное господство города должно
закончиться катастрофой. Доля.
«Такова моя доля» — порою вздохнёт
человек. Доля здесь — синоним судьбы. Но, если прислушаться, слова эти звучат
по-разному. Судьба — это то, что суждено. В основе судьбы лежит суд: где-то
там, наверху принято решение, и вот оно реализуется в обстоятельствах жизни.
Доля имеет совсем другую этимологию. Она представляет собой часть, которая нам
досталась. Поэтому более точным синонимом доли является участь. Концепт доли, как и концепт судьбы,
восходит ещё к языческому мировоззрению. Жизнь предстаёт в виде промысла,
результат которого — добыча, из которой тебе полагается определённая часть
(доля). Понятно, что при таком подходе доля может означать лишь некий объём
благ. Имея долю, ты получаешь, приобретаешь. Если же ты благ лишён или,
изначально имея, их теряешь, то это никакая не доля. Для описания подобного
состояния в языке существовал лингвистический антипод доли — недоля. Мы и сегодня плохую погоду называем
непогодой, но слова «недоля» в современном языке нет. Почему так случилось? На
самом деле, это неважно. Язык изменчив, но всегда выполняет свою задачу —
представлять и описывать мир. Важно, какую картину мира мы имеем сейчас,
располагая лишь словом доля (без его антипода). Нынешняя доля включает как блага и
прибыток, так и неприятности и лишения. Но доля — это лишь часть целого.
Выбирая свою долю, я, действуя, вроде бы, совершенно изолированно, тем не менее
связан со всеми другими — через целое. Увеличивая свою долю (благ,
ответственности или труда), я уменьшаю объём, остающийся другим. Понятие доли
не даёт мне замкнуться на самом себе, я должен учитывать, что все жизни
взаимосвязаны. Если присмотреться, внутри доли скрыта
целая философия справедливости. И эта справедливость не механистична, как,
например, справедливость равенства. Равенство пассивно. Если всем поровну,
значит от меня ничего не зависит. Равенство не продуктивно: распределяется то,
что есть. Справедливость через равенство достигается на любом объёме. Равенство
бесчеловечно: оно не смотрит на лица, люди в расчёт не берутся. Там, где
человек видит человека, равенство неизбежно нарушается. Справедливость, которую можно извлечь из
концепта доли, имеет иную природу. Моя доля должна быть такова, чтобы не
отягчать долю других; чтобы в результате выбора (реализации) моей доли другие
люди чувствовали облегчение бремени (приращение благ). Это активный принцип,
построенный на сознательном изменении своей жизни. Он конструктивен, поощряет
созидать. Из него следует, что человек должен отдавать (тогда как принцип
равенства воспитывает ожидание, что тебе должны что-то дать). Наконец, он
приучает видеть других людей. Если ты хочешь помочь нести чьё-то бремя, то для
начала надо осознать, в чём оно состоит. Тут целый кладезь чуткого, поистине
христианского отношения друг к другу, надо лишь посмотреть на мир под верным
углом. Здоровье.
Здоровье — это одно из основных попечений
современного человека. Мы приучены уделять своему здоровью внимание и время. С
одной стороны, это, вроде как, даёт свои результаты — люди стали жить дольше. С
другой стороны, чем больше мы погружаемся в тему здоровья, тем больше
убеждаемся, что со здоровьем у нас большие проблемы. Современная диагностика
позволяет выявлять самые различные отклонения от нормы, и высока вероятность,
что уж что-то у тебя окажется не в порядке. Здоровый человек сегодня большая
редкость; как говорит злая шутка — здоровых нет, есть лишь недообследованные. Между тем, здоровье — неотъемлемая
составляющая качества жизни. Быть здоровым — не просто хорошо, хорошо — это
быть здоровым. В языке слова «хорошо» и «здóрово» являются синонимами, причём
«здóрово» даже превосходит «хорошо» по заряду положительных эмоций. Изначально возможный расклад выглядел
незатейливо: либо ты болен, и тебе плохо, тогда надо лечиться и сугубо
молиться, чтобы болезнь ушла; либо ты здоров, чувствуешь себя нормально, и
значит всё хорошо. Здоровье работало на позитив, давая человеку повод для
радости даже на фоне самых тяжёлых условий существования. Сегодня здоровье обременяет человека не
меньше болезни. Мы не можем воскликнуть «здóрово!», не имея нужды в постельном
режиме. Во-первых, мы должны подозревать, что болезнь в нас всё-таки есть и
тщательно искать её, посещая врачей в профилактических целях. А во-вторых,
здоровье как-то незаметно переродилось из потенциала в зону ответственности.
Оно уже — не крылья за спиной, позволяющие нам летать легко и свободно, а чуть
ли не гиря на ногах. Мы обязаны следить за своим здоровьем — прежде всего самим
себе, а в последнее время ещё — государству и обществу. Быть здоровым теперь весьма непросто, на
поддержание этого состояния требуются и время, и деньги. Отличный повод, чтобы
подумать о том, что так называемые «блага цивилизации» — ящик с двойным дном.
Они и дают, и отбирают, и свести баланс порой затруднительно, поскольку
приобретения и потери оказываются совершенно в разных плоскостях. Победа.
Одержать победу — победить врага. Смысл
кажется простым и ясным. У тебя был противник, ты вступил с ним в столкновение
и взял верх. Противник повержен, ты — победитель. Но если присмотреться к слову, можно
заметить, что взять верх — вовсе не главное. Собственно говоря, наша победа —
совсем не про это. Несложный анализ позволяет выделить в этом
слове центральную семантическую единицу — беду. «По» некогда было
приставкой и лишь потом приросло к корню. Смысл «по» в данном контексте тоже
легко прочесть. «По» значит «поверх»: поверх беды, над бедою. Суть победы — в
одолении беды. У беды могут быть разные обличья, в том
числе она может принять образ того, кто будет считаться с врагом. Но русский
человек, чей взгляд на мир выражает русский язык, выходит биться не с тем, кто
живёт по соседству или вдруг пришёл издалека, а с бедой. Именно поэтому русское
сердце никогда не держало зла: пострадавшего врага можно и нужно жалеть, со
вчерашним врагом можно снова иметь нормальные человеческие отношения. Дело не в
людях; люди могут стать носителями бедствий, но истинная цель — не в
истреблении носителей, а в устранении беды. Настоящей победой является лишь успешная
защита, а вовсе не удачное нападение. Такова философия, уже заложенная в наш
язык, а уровень языка — глубинный, это самая что ни на есть основа национальной
ментальности. Поэтому для русского национального сознания так важно ощущение
справедливости (вернее даже — праведности) любых ведущихся силовых или военных
действий. | |
10.07.2025 г. | |
Наверх |


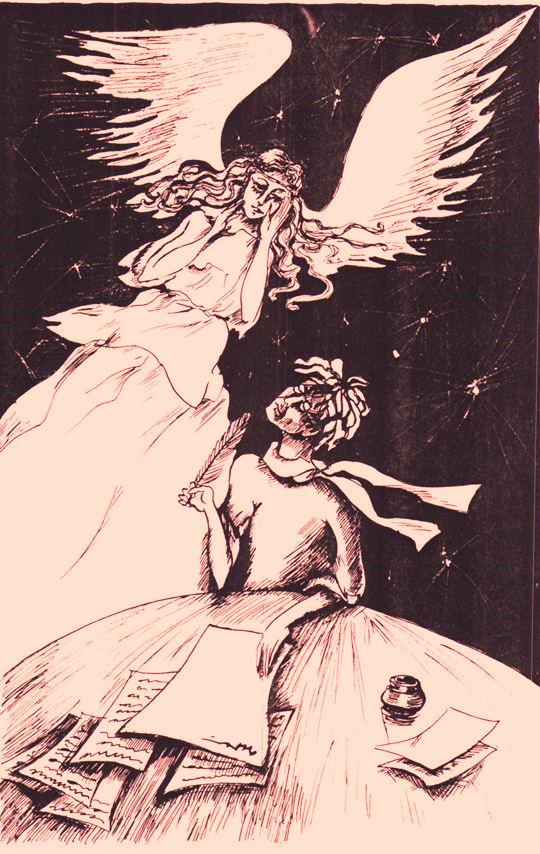
 Культуролог в ЖЖ
Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК
Культуролог в ВК